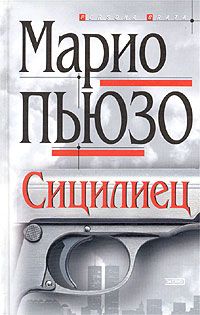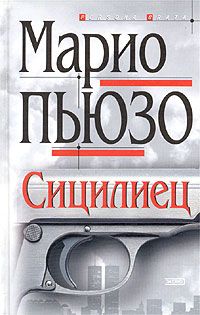— Я готова. Сейчас едем, — и уже торопясь, мне: — Я сглупила, не послушалась тебя и сразу не вызвала "скорую". Приступ оказался серьезный. Врач говорит, нужно госпитализировать… Димчик, у меня к тебе просьба: позвони завтра ко мне на работу и объясни, что к чему. В воскресенье в институте обязательно кто-нибудь будет. Пусть не теряют меня.
— Не волнуйся, позвоню. Давай номер. — Лена продиктовала цифры, я записал их в блокнот.
— В больницу приходи. Не забывай. Ну, все, целую, пока! — в трубке раздались короткие гудки.
Из спальни родителей доносилось урчание. В свою комнату я не пошел, выключил торшер, разделся и лег спать тут же, на диванчике. Минут десять в голове вертелись приятные воспоминания сегодняшнего вечера. Уже засыпая, я услышал, как на улице хлопнула дверца, заработал мотор и машина "скорой" укатила.
Такого мне видеть еще не доводилось… Я стою на горе, внизу раскинулась панорама города. Но до чего странная картина: на правой стороне небосклона ярко горит солнце — на левой бродят черные тучи. Город разделен на четыре равные части, в каждой из которой стоит свое время года. В одной знойное пыльное лето; в другой — весна пышным цветом распустилась на деревьях; третью занес снег; четвертую размывает дождь… Коллаж! — догадываюсь я, — фантазия художника. Но нет, картина живая: вдали синее море, по линии горизонта движется большой пароход с огромной трубой. Вдруг пароход начинает тоненько свистеть, и превращается в паровоз. Свист становится нестерпимым, и я открываю глаза. Чайник на плите злобно зашипел, свисток не выдержал давления пара и, взвизгнув, со стуком упал на пол. Мать запоздало пробежала в кухню, загремела посудой.
Я повернул голову: на улице третья картинка из моего сна — заснеженная.
Уже довольно светло. Наступило воскресное утро. Для кого-то выходной, а для меня рабочий день. Что поделаешь — задание редакции. Интересно, справлюсь ли я с ним? Я потянулся к столу, взял часы. Увы, они стояли. Вчера для меня и Тани время перестало существовать, и я забыл их завести. Я приподнялся с дивана, заглянул через открытое окно в комнату. Большие настенные часы показывали 8.10 — можно еще поваляться. Я завел часы, подогнал стрелки и, заложив руки за голову, снова откинулся на подушку.
"Ах, Таня, Таня! Милая девочка с цветом волос осенних листьев… Кажется, я влюбился в тебя до сумасшествия. Я все еще пахну тобой, и этот запах вызывает во мне истому и нежность. Я отчетливо помню каждую черточку твоего лица, каждый изгиб твоего тела, ты и прошедшая ночь останетесь в моей памяти, как самое чистое и светлое воспоминание…"
За спиной у меня выросли крылья. Я откинул одеяло и вспорхнул с дивана. Но крылья пришлось сложить: в лоджию вошел отец. Он с презрением потянул воздух.
Хотя и больно признаваться, но отец у меня личность скучная. Он сухопарый, долговязый, работает учителем. По характеру псих и буян. Со мной поступает до обидного примитивно: ругает, если нужно отругать; хвалит, если нужно похвалить, — и всегда этот менторский тон. Отец никогда не промолчит там, где молчание было красноречивее любых слов, никогда не поступит непредсказуемо. Он как заезженная магнитофонная запись с раз и навсегда записанным текстом. Поэтому я заранее знаю все, что он скажет, и могу до конца продолжить любую начатую им фразу… Отец всю жизнь пытается надеть на меня узду, но это ему не удается. Сейчас он стоял передо мной в боевой стойке, макал в чашку со сметаной вчетверо сложенный блин, откусывал его вставной челюстью и, пожевывая, поглядывал на меня. Кстати, я уже неделю обещаю ему залезть на крышу и подправить упавшую после бури антенну, да все руки не доходят.
Я поднес к глазам руку и дольше, чем следовало бы, задержал взгляд на часах.
— Ого! Опаздываю на работу.
Я нырнул под руку отца, прошмыгнул в ванную и плотно закрылся. Я долго брился, чистил зубы, потом под душем вымывал остатки разгульной ночи. Когда вышел, отца дома не было. Время поджимало. В трусах и майке я заскочил в задымленную кухню, схватил блин, макнул в варенье и отправил в рот. Мать возилась у плиты, громыхая сковородкой.
Я наскоро позавтракал и кинулся в свою комнату.
— Костюм надень! — крикнула мать вдогонку.
Ох уж мне эти костюмы! Терпеть не могу этот дурацкий чемодан с рукавами. Чувствую себя в нем, как черепаха в панцире, никакой свободы движений — канитель одна. Я больше люблю спортивный стиль: кроссовки, джинсы, футболки свитера — словом, все то, в чем можно порхать бабочкой, не опасаясь причинить ни себе, ни одежде ни малейшего ущерба… Но костюм я все же одел — совсем новый, темного цвета, в полосочку. К нему у меня специальная белая рубашка из хорошего материала, весьма нежного на ощупь. Я нацепил франтоватый галстук, глянул в зеркало, причесался. Жених, да и только. Передвигаясь, будто оживший манекен, я влез в куртку и выкарабкался на улицу.
Снег был уже на исходе. Отдельные снежинки лениво вальсировали в чистом воздухе. Кругом белым-бело, но это ненадолго в атмосфере тепло и влажно. Снежный покров обманчив — под ним прогретая за несколько солнечных дней земля, она печкой растапливает белое одеяло изнутри, и подошвы ботинок, проминая его пятнадцатисантиметровый слой, оставляют на асфальте талый коричневый след. Уже звенит капель; трещат деревья, которые, стряхивая с себя тяжелую белую шубу, тянут ветви к небу. К вечеру снег обязательно растает.
Я дошлепал до остановки, впрыгнул в отъезжавший трамвай. Все пассажиры, одеты по-зимнему, толстые и мягкие, сосредоточенно глядят на дорогу и трясут щеками в такт колебаниям вагона. Смешно!
Не доезжая одну остановку до ГУВД, я сошел.
Не люблю воскресный город. В этот день днем его улицы и площади заполнены людскими массами, которые втягиваются в магазины государственные, магазины коммерческие, в столовые, ларьки палатки, павильоны; и все снуют, чего-то ищут, спрашивают, вынюхивают; и все котомки, авоськи, сумки, сетки, "дипломаты", мешки…
Хорошо что сейчас утро и на улицах не так много людей.
В мужском салоне парикмахерской я сел в свободное кресло. Смазливая брюнетка в соседнем кресле стригла подростка.
— Лев Абрамыч! — крикнула она, не отвлекаясь от работы. — К вам клиент.
Из подсобки вышел невысокий полный мужчина средних лет с крупным носом и лысиной на манер "декольте". Лысина блестела, словно хорошо начищенный носок ботинка. Мужчина что-то проглотил и вытер руки о белый замызганный халат.
— Вижу, лапушка, вижу, — сказал парикмахер тем елейным голосом, которым старые волокиты говорят с молоденькими женщинами. Он подошел ко мне, взвесил на ладони мои волосы и, театрально отведя руку в сторону, то ли предложил, то ли спросил: — Наголо?
— Зачем наголо? — обиделся я. — Я, правда, иду сейчас в милицию, но не на пятнадцать суток.
Парикмахер наклонился ко мне и, подрагивая головой, несколько игриво спросил:
— Не уговорить?
"Псих какой-то!" — я начал подниматься.
— Я попозже зайду.
Меня властно придавили к креслу.
— Сидите, — кротким голосом сказал парикмахер, повязал вокруг моей шеи пеньюар и сунул мою голову в раковину под зеркалом. На макушку полилась горячая вода, затем холодный шампунь. В волосы заползли толстые парикмахерские пальцы. Когда процедура мытья была окончена, Лев Абрамыч бросил мне на голову полотенце. Плотоядная улыбка и хищное пощелкивание ножницами привели меня в трепет.
— Вы хоть стричь-то умеете? — Вытирая голову, не без опаски спросил я.
— А как же?! — удивился мужчина в зеркало. — Не волнуйтесь, все будет в ажуре.
— Абажур только из меня не сделайте… С бахромой, — проворчал я и с тоской посмотрел на подростка, который тихо хихикал в своем кресле.
Застрекотали ножницы, и через двадцать минут я стал похож на мальчика, из тех, что танцуют и скачут, сопровождая пение звезд эстрады. Я только и мог сказать огромное "О-о!", когда мастер поднес кусок зеркала к моему затылку, чтобы продемонстрировать прическу сзади.
Оставшуюся часть пути до ГУВД я проделал пешком, и все косил на себя взгляд в витрины магазинов. За одной из них я заметил телефон-автомат и вспомнил о том, что обещал Лене позвонить к ней на работу. Я вошел в магазин — это оказался продтоварный— набрал номер и сообщил женщине, взявшей на том конце провода трубку, о болезни Елены Сергеевны. Там разохались, разахались, начались расспросы. Я поспешил остановить поток фраз коротким объяснением: "Все нормально, Казанцева жить будет!" — и повесил трубку на рычаг. Там же купил пачку "Стюардессы" и отправился дальше.
Около десяти я был на месте.
Здания милиции и военкомата — современные, трехэтажные, отделаны мраморной крошкой — стоят рядышком и составляют архитектурный ансамбль. Между ними — один на братство милиции и военных — двухсотметровый подземный тир. Перед каждым зданием — площадки, выложенные бетонными квадратиками, и фонтанчики, ныне не действующие. Но замысел архитектора о единстве комплекса нарушен из-за тяги милиционеров к решеткам. Свою фасадную часть они обнесли забором из толстых прутьев, поверху которых высились пики в форме "трезубцев Нептуна". Территория военных открыта, и это импонировало мне больше.