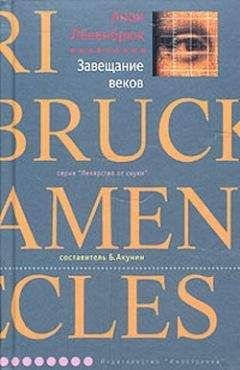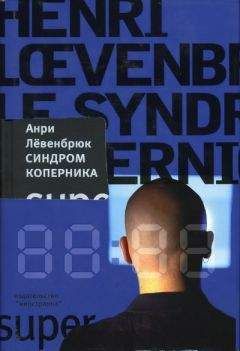Внезапно меня осенило: чем больше я смотрел на нее, такую непринужденную и уверенную в себе, с такими насмешливыми глазами, тем очевиднее становилось, что это наверняка женщина… которую влекут женщины. Проще говоря, она выглядела и вела себя как лесбиянка. Или же в соответствии с теми представлениями о лесбиянках, которые были придуманы идиотами вроде меня? Хоть я и прожил десять лет в Нью-Йорке, хоть и писал исключительно о сексе, но мне всегда было не по себе в присутствии гомосексуалистов. Особенно если это угадывалось во взгляде великолепной женщины. Почему, черт побери, я не могу относиться к этому как взрослый человек? Как житель Нью-Йорка? Ничему не надо удивляться…
— На каком канале? — прервал я ее, стараясь скрыть свою догадку.
— «Канал Плюс».
— Вы работаете в программах новостей?
— Нет, я занимаюсь скорее журналистскими расследованиями, делаю документальные фильмы. Я работаю для передачи, которая называется «Девяносто минут»…
— Очень оригинально, — съязвил я. — Это как «Шестьдесят минут» на Си-би-эс, только немного длиннее, да?
— Если вам угодно… Американская программа «Шестьдесят минут» действительно была для нас одним из образцов. Мы подражали определенному стилю американской журналистики.
Ангажированная журналистка. Вот, значит, в чем дело. Я начинал лучше понимать эту девицу.
— Лично я нахожу, что американская журналистика, если не считать стиля гонзо,[10] который меня забавляет, и исключений вроде Майкла Мура с его командой, все больше и больше вырождается…
— Со времен Рейгана это во многом верно, — согласилась она. — Но все же мы назвали свою программу в честь той, за ее прошлые заслуги.
— Понятно.
— Такого рода передачи здесь не хватало…
— У вас своя специализация в команде?
— С самого начала я стала заниматься Средним и Ближним Востоком, и я все больше и больше интересуюсь религией, различными конфессиями. По правде говоря, узнавать меня стали после репортажа о заложниках в Ливане… Вы припоминаете?
Припоминать. С момента возвращения мне только это и приходилось делать. Я припоминал отца. Мать. Страну. Как старый фильм, из которого с трудом припоминаешь лишь фамилию режиссера.
— Да, да, я помню, что каждый вечер в восемь часов мы только и слышали: Жан-Поля Кауфмана удерживают сто пятьдесят дней, Марселя Фонтена… и прочее в том же духе… Вы тогда, наверно, были совсем молодой!
Она улыбнулась.
— Это было в восемьдесят восьмом, мне было девятнадцать лет. Получив степень бакалавра и отучившись два года на историческом факультете, я забрала свой диплом и решила поиграть в деву-воительницу. Опыта у меня совсем не было, но желание огромное, и я даже познала свой звездный час, когда мне удалось обставить коллег. С тех пор я провела немало расследований в Иране, Ираке, Израиле, Иордании. После нескольких поездок в Иерусалим я заинтересовалась историей религий. Сняла два документальных фильма о Ватикане…
Короче говоря, чтобы вернуться к нашей теме, примерно год назад ваш отец связался со мной, чтобы рассказать о будто бы сделанном им необыкновенном открытии…
Она вынула из брючного кармана пачку сигарет, затем вновь заговорила, осторожно снимая целлофановую обертку.
— В течение года мы с ним встречались несколько раз. Я его всерьез не воспринимала, но у меня нет привычки отваживать тех, кто мне звонит. Он задавал странные вопросы — о религии, об арабах, говорил, что ему есть чем меня удивить, но пока еще время не пришло… В конце концов я прониклась к нему симпатией.
— Симпатией?
— Да. Он был такой тактичный.
— Уж это точно! — вздохнул я, возведя глаза к потолку.
Казалось, журналистку мое раздражение лишь позабавило.
— Однажды он обещал дать мне эксклюзивный материал, если я помогу в его исследованиях, а десять дней назад ему удалось уговорить меня приехать в Горд. Но прежде чем он успел рассказать мне, о чем идет речь, дело приняло скверный оборот.
Я нахмурил брови, но она продолжала:
— Я уже собиралась вернуться в Париж, но тут узнала, что вы должны появиться здесь. Я хотела предупредить вас, что оставаться в доме вашего отца небезопасно, но приехала, когда уже гром грянул…
Какое-то время мы молча смотрели друг на друга: я пытался осмыслить услышанное, она ждала момента, когда в голове у меня шарики встанут на место. Она закурила сигарету.
— Что за чепуха? — пробормотал я наконец. — И каким образом дело приняло скверный оборот?
— Машина, вылетающая с дороги в два часа ночи, какие-то типы, которые день и ночь за вами следят, пропажа документов — все это я и называю скверным оборотом… Не говоря уж о вашей красивой шишке на лбу. Она вам, впрочем, очень к лицу.
Журналистка умолкла и уставилась на меня. Я угадывал в ее лице нечто вроде вызова. Быть может, я проявил излишний напор. Мы не столько разговаривали, сколько сражались. И почему-то у меня возникла уверенность, что в этой игре я обречен на поражение.
Нашей беседе следовало дать еще один шанс. Я должен был сосредоточиться. Необходимо, чтобы она рассказала обо всем спокойно. Мне нужно было знать. Какой бы безумной ни казалась эта история, я должен был выслушать все до конца.
— Как вас зовут? — спросил я наконец.
Она глубоко затянулась и с улыбкой выдохнула большой клуб дыма. Провести ее не удалось. Думаю, что она точно вычислила все фазы моего настроения с того самого момента, как подобрала меня на улице. Наверное, любой журналист должен уметь это делать. Обладать неким предвидением.
— Софи де Сент-Эльб, — сказала она, протянув мне руку.
Де Сент-Элъб? Это имя идет ей гораздо меньше, чем Миа Уоллес…
Я тоже улыбнулся и пожал ей руку.
— Послушайте, мадам де Сент-Эльб…
— Мадемуазель, — поправила она с наигранной обидой.
— Мадемуазель, мне все-таки захотелось выпить чаю. Он такой ароматный…
Она одобрительно кивнула:
— «Дарджилинг». Я пью только его. С чаем почти так же, как с табаком. Быстро привыкаешь. Я ничего не могу курить, кроме моих любимых «Честерфилд».
Она потушила сигарету в пепельнице, неторопливо встала с кресла, не нагибаясь, сбросила с ног туфли, подошла к маленькому столику и налила мне чаю. В каждом ее движении ощущалась странная чувственность. В том, как она приподнимала очки указательным пальцем, в манере курить, в походке. У нее были физические данные молодой яппи и жесты старой актрисы, вернувшейся на сцену, бывшей pin-up,[11] лишенной всех иллюзий.
— Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, — сказала она. — Мне самой ваш отец сначала показался сумасшедшим с приятными манерами. Молока добавить?
— Да, пожалуйста…
Она дала чаю настояться, прежде чем накрыть его молочным облаком. Вытащила еще одну сигарету из пачки и сунула ее в рот. Потом принесла мне чашку, так и не закурив. Откинув голову, сжав губы, втянув руки в слишком длинные рукава, она шла по воображаемому канату, грациозно переступая по нему босыми ногами. В поведении ее было нечто театральное. Словно она ничего не делала спонтанно. Она подала мне чай, и я окончательно приподнялся, чтобы привалиться спиной к стене. Она вернулась к широкому креслу, оперлась на подлокотники, чтобы вспрыгнуть в него, и уселась на турецкий манер.
Я отпил несколько глотков. Чай у нее был восхитительный. Улыбка тоже.
— Софи, вы не могли бы рассказать мне обо всем более конкретно?
Я буду долго вспоминать первую фразу, с которой журналистка начала посвящать меня в детали этой истории. «Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали: мне не известно, какую тайну открыл ваш отец. Но одно я знаю наверняка: пока я ее не разгадаю, жить буду только ею». Я буду долго вспоминать эту фразу, поскольку в ней одной заключено все, во что превратилась моя собственная жизнь с того самого вечера. А мне именно и нужна была какая-то перемена. Во Францию я приехал не только из-за отца. Быть может, я бессознательно искал способ подать назад. Наверстать упущенное. То, что предложила журналистка, мне бы даже и в голову не пришло, но я не из привередливых.
Итак, примерно год назад отец позвонил Софи де Сент-Эльб, потому что был уверен, что его история заинтересует ее и что она будет ему полезна. Он в ней не ошибся. В общем, он поведал ей, что сделал величайшее открытие, равного которому не было на протяжении последних двадцати веков. Ни больше ни меньше.
— Сначала я, конечно, не поверила ни единому слову, — пояснила журналистка. — Вы не представляете, сколько идиотов осаждает нас звонками, сообщая о всякого рода невероятных открытиях… Ваш отец на них совсем не походил.
— Мягко говоря.
— В течение года он звонил мне регулярно, и мы несколько раз встречались. Он был изысканно вежлив и задавал исключительно точные вопросы. Находить ответы было непросто, и для меня это превратилось в своего рода игру. Иногда я перезванивала ему только через несколько дней. А дней десять назад он прислал мне по факсу два текста и дал двадцать четыре часа на то, чтобы я приняла решение.