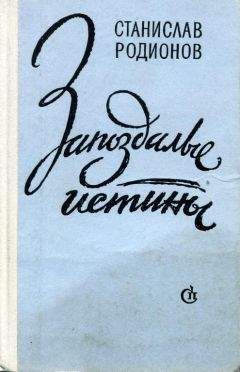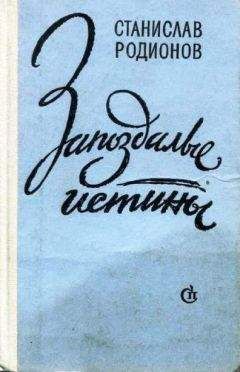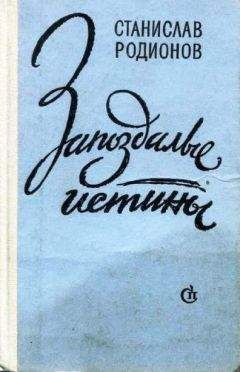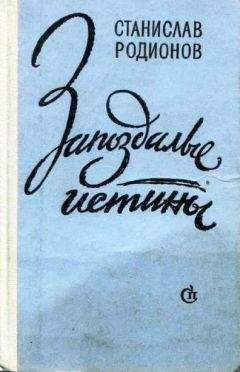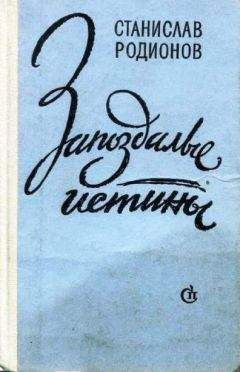Инспектор задумчиво отщипнул у хризантемы лепесток. Рябинин ждал его слов, намереваясь не допустить второго покушения на хризантему — Лидина ведь. Но Петельников молчал, снедаемый какими-то своими мыслями. Поэтому Рябинин добавил:
— И еще. На допросе мать вдруг чего-то испугалась. Чего? Отец на допросе почему-то злился. На кого? На меня? Вряд ли. На преступника? Он что-то знает...
Петельников вжикнул молниями и спрятал рябининскую бумажку. Его лицо, освещенное додуманной мыслью, обратилось к следователю:
— Но женщина из сна совсем не похожа на женщину, про которую рассказала цыганка Рая.
— Да? — удивился Рябинин; удивился не тому, что они непохожи, а тому, что не догадался их сравнить.
— Сергей, — улыбнулся инспектор той улыбкой, которая бежала впереди него, — а не пора ли нам переменить профессию? Тебе, скажем, на библиотекаря, а мне на диск-жокея...
— Почему же?
— Что это за следователь прокуратуры, который строит версии на сновидениях? Что за инспектор уголовного розыска, получающий оперативную информацию у гадалки?
— Не рви хризантему, — буркнул Рябинин.
Из дневника следователя. Я вхожу в комнату, а Иринка делает мне знак молчать — она слушает радио. Боже, монолог Гамлета «Быть или не быть...». Лицо сосредоточено, словно решает задачку. Бровки насуплены, рот приоткрыт, даже вроде бы и не моргает.
— Понравился? — спросил я после монолога, не понимая, чем он ее привлек.
— Все правильно, — солидно заключила она. — Играешь в крестики-нолики и не знаешь, ставить или не ставить крестик...
В этот день Леденцов кончил работать по самой емкой версии — были проверены все подозрительные женщины города: судимые, легкого поведения, пьющие, тунеядки... Работа делалась для очистки совести, поскольку каждый инспектор знал, что этим женщинам дети не нужны — ни свои, ни чужие. Часов в девять вечера усталый леденцовский мозг вспомнил об одной непроверенной квартире; его усталый мозг о ней не забыл бы и на секунду, будь уверенность в успехе. Но приказ Петельникова есть приказ.
Чтобы скрасить дорогу, Леденцов купил пять жареных пирожков с капустой. Последний, пятый, он доел уже в полутьме лестницы, освещенной единственной лампочкой. Приметив бледную пуговку звонка, он утопил ее с приятной мыслью о пирожках, которых все-таки мало купил — восемь бы и все бы с мясом.
Дверь открыли так скоро, что приятная мысль о пирожках не успела пропасть — ну, хотя бы провалиться вслед за пирожками, — а лицо инспектора, по учению Петельникова, должно быть бесстрастно и бессмысленно, как чистый лист бумаги. Но во тьме передней никого не было.
— Давай, входи живей, — велел сухой голос из этой тьмы.
Леденцов послушно вошел.
— Давай-давай, топай, — заторопил старушечий голос. — Чего опоздал-то?
— Служба, — на всякий случай разъяснил инспектор.
Сухие кулачки сильненько уперлись в его спину, задав направление. Под их стремительным конвоем он миновал сумеречный коридор и вошел в большую комнату, пасмурную от табачного дыма и тихого голубого света.
— Садись, уже кончается, — шепнула старушка, толкнув его на какой-то мягкий топчанчик.
Головы, разных размеров и на разных уровнях, кочками чернели там и сям. Лиц он не видел — они были обращены к телевизору, синевшему в углу, как распластанная прямоугольная медуза. Нешелохнутая тишина, казалось, ждала какого-то события, взрыва, что ли.
— Мама, его убьют? — спросил детский голосок снизу, с полу.
— Смотри-смотри...
Шла последняя серия детектива. Инспектор уголовного розыска — там, на экране, — поправил под мышкой кобуру и заиграл на пианино ноктюрн Шопена. Леденцов зевнул. Но инспектор уголовного розыска — там, на экране, — улыбнувшись красавице, у которой от ноктюрна Шопена раздувались ноздри, бросил клавиши, вырвал из кобуры пистолет и пальнул в рецидивиста, шагнувшего из-за бархатной портьеры. Леденцову хотелось пить — пирожки с капустой чувствовались. Седой полковник — там, на экране, — положил руку на плечо инспектора уголовного розыска — того, на экране, — и спросил: «Ну, теперь спать?» — «Нет, — ответил тот, на экране, — у меня билеты в филармонию...»
Яркий свет люстры развеял океанскую мглу. Когда глаза привыкли, Леденцов обнаружил у своих ног ребенка, сидевшего на горшочке. Инспектор сделал ему бодучую козу, отчего мальчишка облегченно рассмеялся, отрешаясь от детективной стрельбы. Подняв голову, Леденцов увидел, что стоит как бы в кругу мужчин и женщин, которые смотрели на него с не меньшим интересом, чем — последнюю серию. Он тоже оглядел себя — все опрятно, все застегнуто; зеленый же костюм, могущий вызвать некоторое любопытство, покоился до праздников в шкафу.
— Кто это? — тихо спросил пышноусый мужчина у старушки.
— Так я думала, твой деверь.
— Это не мой деверь.
— Парень, ты чей деверь? — старушка подступала к нему с каким-то наскоком.
— Пока ничей, — ответил Леденцов, показывая улыбкой, что если кому этот деверь нужен, то пожалуйста, вот он.
Невесомым движением крупной руки пышноусый мужчина отстранил старушку:
— Молодой человек, ваши документы?
— Граждане, вы меня в чем-то подозреваете?
— Пятую серию задарма посмотрел, — выложила свои подозрения старушка.
— Граждане, мне нужна Иветта Максимова.
— А, так не сюда попали. Ее квартира рядом.
Пышноусый довел его до двери и на прощание осуждающе качнул головой, отчего усы, став в полумраке птицей, севшей ему под нос, ответно махнули крылышками — мол, Иветта Иветтой, а кусок пятой серии посмотрел.
Леденцов вздохнул в тишине лестничной площадки. Хотелось пить. С чего бы? Что он сегодня ел: утром стакан чая на ходу, в обед ничего, а потом пирожки с капустой. Стакан жидкости в день — как в пустыне. Интересно, в каком это райотделе инспектора ведут тонкие беседы, играют на пианино и стреляют в рецидивистов, а не жрут на ходу столовские пирожки с капустой? Туда бы устроиться. И он решил, что сейчас попросит у Иветты Максимовой стакан воды, а лучше три стакана, — и уйдет.
Леденцов нажал молочную кнопку звонка.
Видимо, его глаза уже перестроились на темноту, потому что свет из чужой передней резанул их.
— Мне Иветту Максимову, — сказал Леденцов, жмурясь.
— Я...
Она впустила его, сама оказавшись в том ярком свете. В домашних тапочках, в халате, в платке, под которым топорщилась решетка бигудей. Но инспектор разглядывал ее глаза, которые молча ждали чего-то неожиданного, как зрители из покинутой им квартиры ждали выстрела на экране. И он мог поручиться, что Иветта Максимова ждала чего-то плохого, похуже экранного выстрела.
— Здравствуйте, я инспектор уголовного розыска, — сказал он, выделив слово «уголовного».
Она только кивнула — кивнула с готовностью, словно он никем и не мог быть, кроме инспектора этого самого уголовного розыска.
— Иветта Семеновна, у вас, конечно, есть джинсовый брючный костюм?...
Она кивнула.
— Вы блондинка...
Она кивнула сразу, он еще не договорил.
— Вы любите духи «Нефертити».
Теперь она сделала шаг назад, точно решила убежать.
— Видите, мы все знаем, — улыбнулся Леденцов и, осененный уже не догадкой, а уверенностью, тихо спросил: — Где девочка в красном платье?
— Ее здесь нет...
— Одевайтесь, — приказал он, забыв про мучившую жажду.
Из дневника следователя. Вечер просидели с Иринкой в парке на берегу почти игрушечного прудика с чистой, уже осенней водой. Над нами были тоже игрушечные купола ив, свисавшие до самой земли, отчего издали походили на стога сена, поставленные впритык друг к другу.
Иринка не умолкала.
— Пап, в парке народу, как в бочке кислороду.
— Люди отдыхают...
— Пап, а вон пошел дядя с гнусной грацией.
— Нельзя так говорить о взрослых, — неуверенно учу я, потому что дядина грация вызвана крепкими напитками.
— А почему он фырчит по-кошачьи?
— Простудился...
— А мы постановили купить Суздаленкову намордник.
— Что, тоже фырчит?
— Нет, он ручки грызет, уже четыре огрыз. Пап, эту палку я брошу в воду чертям вместо оброка.
Пока бросает, молчит.
— Пап, Архимед был водопроводчиком?
— Нет, ученым. Чего-то ты говоришь без умолку?
— А у меня сегодня мыслительный день.
При первой встрече следователь и преступник бросают друг на друга первые взгляды — быстрые, откровенные, познающие, те взгляды, которые почему-то умеют — потому что первые? — познать больше, чем за все последующие допросы.
Когда открылась дверь, и женщина, маленькая на фоне Петельникова, ступила в кабинет, Рябинин глянул на нее, снедаемый лишь одной мыслью — похожа ли? На ту, из сна потерпевшей? На ту, словесный портрет которой он четко записал на бумаге? Но тонкая усмешка инспектора как бы вклинилась между следователем и женщиной, отчего взгляд лег уже предупрежденным — не похожа. Не та, не из сна. Ни заметных скул, ни крупных зубов, ни тонких губ... Ну и бог с ней, с выдуманной; бог с ней, с его теорией интуиции и сновидений, — перед ним стояла отысканная уголовным розыском преступница.