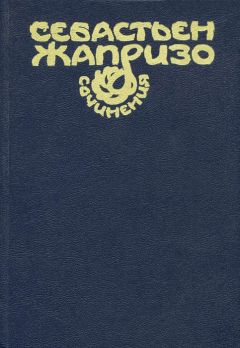- Поклянись, что предупредишь меня, если она...
- Что она? Чего ты боишься?
- Ах! Я схожу с ума, Бернар! Она умеет...
Дверь прихожей скрипнула; Элен отстранилась от меня и продолжала уже наигранным тоном:
- Вам нужно понемногу выходить гулять, Бернар. Теперь вы свободный человек.
Это ложь. Раньше я был военнопленным. А теперь ощущал себя взятым под стражу.
Город был под стать этой загадочной квартире, скрадывающей шумы и все-таки полной чьим-то незримым присутствием. Выбравшись подслеповатым зимним утром на улицу, я немедленно терялся в узких переулках, где, словно сновидения, роились клубы тумана. Я то выходил на пустынные, мокрые, пахнущие стоячей водой и подгнившими сваями набережные Соны, то поднимался по улочкам со ступеньками, которые никуда не вели. Как-то раз проглянуло солнце, и я увидел Рону. Повеяло раздольем. Разлившаяся река катила свои воды, парили чайки; меня, как лодку, срывающуюся с привязи, тряхануло от желания бежать куда глаза глядят. Но моя жизнь, моя подлинная жизнь была здесь, меж этих двух женщин, что кружили вокруг меня, хотя, может быть, я сам кружил вокруг них? Я поспешил вернуться. С какой-то обостренной до болезненности чувственностью я вновь прошел торжественной анфиладой пустынных комнат и услышал жалкие отрывистые звуки рояля, похожие на отголоски из какой-то дальней страны.
Я попытался приобщить Элен к более осязаемым ласкам. Неистовство наших первых объятий заменить нежностью. Она не противилась, ее увядающие черты лучились от восторга. Но в последний момент она спохватилась, уцепилась за мои плечи, и ее глаза, устремленные куда-то поверх моего плеча, впились в темноту. Она тяжело дышала.
- Нет, Бернар... Что, если она придет?
- Но чего же вы в конце концов боитесь? - терял я терпение. - Аньес прекрасно знает, что вы меня любите.
Эти слова, казалось, перепугали Элен.
- Да, - согласилась она, - думаю, знает. Но я не хочу, чтобы она знала, что я люблю вас так!
- Но, Элен, как же еще можно любить?
- Я не хочу, чтобы она застала меня... Она еще ребенок!
- И весьма смышленый.
- Да нет, Бернар. Она больна. Я даже не осмелилась посвятить ее в... наши планы - так боюсь ее ревности. Я сама воспитала эту малышку.
Она обрела свое обычное достоинство и с какой-то недоверчивой гадливостью принялась разглядывать меня.
- То, что вы делаете, нехорошо, - сказала она.
- В таком случае больше не приближайтесь ко мне, Элен. Не целуйте меня. Не искушайте.
Она закрыла мне глаза своей худой ладонью.
- Да. Вероятно, я не права, мой бедный Бернар. Наша любовь так прекрасна! Не нужно ее пачкать. Вы обиделись?
Нет, я не обижался на нее. Причиной моей взбешенности была скорее Аньес. Я подстерегал ее; постоянно торчал в засаде у ее комнаты. Она без конца принимала своих странных посетителей - по утрам одного-двоих, после обеда двоих-троих. Это были почти сплошь женщины, одни - одетые весьма элегантно, другие - очень скромно, но каждая приносила с собой небольшой сверток. Поразмыслив, я удовлетворился таким предположением: видимо, Аньес обладает даром врачевания. Этим объяснялось все: как слезы посетительниц, так и их подарки. Но объяснялись ли этим смятение на лицах выходящих от нее людей, особая степень их признательности, взволнованность и потрясение, с которыми им не удавалось совладать? Они казались больными не тогда, когда входили, а когда уходили. Я наблюдал из-за двери за вереницей этих женщин, поочередно исчезавших в комнате Аньес с присущей всем им одинаковой осанкой смиренных грешниц, направляющихся в исповедальню, и это зрелище завораживало меня. У меня тоже возникало желание войти туда вслед за ними и признаться Аньес в любви, ибо я уже любил ее и не мог обойтись без ее худенького тела, которое она так бесстыдно выставляла напоказ каждое утро; все мои мысли были о ней. Возможно, и она много думала обо мне: я часто перехватывал ее взгляд, устремленный на мои руки или лицо, а проходя мимо, она обязательно задевала меня. Нас, словно заряженных электричеством, неумолимо влекло друг к другу. Она сдалась первой. Однажды после завтрака Элен с посудой в руках вышла в кухню. Аньес в это время подметала крошки. Еще не стихли каблуки Элен, как Аньес, прислонив метелку к столу, повернулась ко мне и простонала:
- Быстрее, Бернар!.. Бернар!..
Губы ее приоткрылись. Я склонился над ней. Глухой стон пронзил нас обоих; все вокруг поплыло; она нащупала мои руки, приложила их к своей груди, бедрам. Мы покачнулись, уносимые ураганом, но не упуская при этом ни одного звука перебираемых серебряных приборов, доносящегося с кухни; мы знали, что можно еще... и еще... до удушья. Шаги Элен приближались. До столовой оставалось десять метров, девять, восемь, семь...
Аньес схватилась за метелку, я закурил.
- Кстати, Бернар, - войдя, обратилась ко мне Элен, - вам следовало бы написать в Сен-Флур, запросить свидетельство о рождении.
- Да, пожалуй.
Она ничего не заметила. Обменявшись улыбками и рукопожатием, мы разошлись по комнатам, я с совершенно пустой головой сел за письмо. Остаток дня в противоположность своим привычкам я провел вне дома. Несколько часов пробродил по городу в холодной серой мгле, но так и не успокоился. Я совершал безумство. Нарывался на катастрофу. Если Элен узнает... Тщетно пытался я трезво оценить ситуацию. Я чувствовал, что привел в движение силы, которые сметут нас всех. Если смотреть на вещи хладнокровно, мне могло грозить только одно - быть изгнанным, как мошеннику. Но в этом доме ничего не происходило просто так, само по себе. У меня было ощущение, что я живу в грозовой туче, которая каждый миг может пролиться смертоносным потоком. Бернар!.. Бернар!.. Как бы он поступил на моем месте? Он, повсюду приносивший с собой равновесие, здоровое начало? Стоило под его именем появиться мне... Я задыхался от бешенства. Бернар, и никто иной, толкнул меня в ловушку. Скоро я на законном основании буду носить имя Бернар Прадалье. Я ненавидел его и, честное слово, начинал бояться, словно тот, кто лежал в земле, в грязи, из которой когда-то вышел, все еще был в силах воздействовать на живых.
Приближалась ночь. Как и в первый мой вечер в Лионе, над погруженным во тьму городом переговаривались колокола. Я возвращался почти помимо воли и все больше торопился. Я нуждался в своей отраве. Наступающий обеденный час сблизит наши лица. Под конец я бросился бежать...
Сидя за накрытым столом, они ждали меня - Аньес слева от Элен, обе улыбающиеся; мы мило болтали; приглушенный свет оставлял в тени наши глаза, и это было к лучшему. Я размышлял о том, что между нами завязались узы более сильные, чем узы крови, и что при этом никто из нас ничего не знает об остальных двоих, - эта жуткая скрытая игра любви, затрагивая уж не знаю какую темную сторону моей натуры, доставляла мне удовольствие.
- Вы читали в лагере? - поинтересовалась Элен.
- Конечно. У нас были неплохие собрания книг. Помню даже... - Я вовремя спохватился. - Я никогда особенно не увлекался чтением, разве что от нечего делать. Но кое-кто из моих друзей читал с утра до вечера.
- Например, Жерве Ларош? - спросила Аньес.
- Гм... да... Жерве был из их числа. Благодаря ему я узнал кучу всякой всячины.
- По вашим рассказам я начинаю довольно-таки хорошо его себе представлять, - продолжала она. - Крепкий парень, жгучий брюнет.
- Почему жгучий брюнет? - перебила ее Элен.
- Не знаю, мне так кажется. Крупный нос... бородавка, нет, две бородавки около уха, левого уха...
- Ты заговариваешься, бедняжка, - набросилась на нее Элен. - Не так ли, Бернар? Но...
Я перестал есть. Мои руки, лежавшие поверх скатерти, несмотря на все мои усилия, задрожали.
- Что с вами, Бернар? - тихо спросила Элен.
- Ничего. Со мной ничего... но портрет Жерве... У Жерве действительно были две бородавки у левого уха.
Теперь из нас двоих большее потрясение, казалось, испытывала Элен.
- Ну и что? - сказала Аньес. - Что же тут удивительного?
Мы не сводили друг с друга глаз. "Она его знала, - подумал я, - я у нее в руках... попался!" И тут же сам себе возразил: "Она не могла его знать. Это совершенно невозможно". Впрочем, очень скоро я заметил, что сестры не обращают на меня никакого внимания. Они словно вступили в поединок: подначивали друг друга, сводили какие-то давние и непонятные счеты.
- С чего бы это мне ошибаться? - спросила Аньес, обращаясь к Элен, и тень улыбки скользнула по ее губам. Она едва сдерживалась, чтобы не выдать свое презрение. И как будто для того, чтобы положить конец бесплодному спору, миролюбиво добавила:
- Я даже уверена, что Жерве был из тех мужчин, у которых очень густо растут волосы на подбородке и потому после бритья кожа у них синяя...
И Аньес повернулась ко мне, призывая меня в свидетели.
- Все точно, - пробормотал я.
- Вот видишь, - бросила она сестре.
Элен опустила глаза и долго-долго катала шарик из хлебного мякиша. Аньес повернулась ко мне.