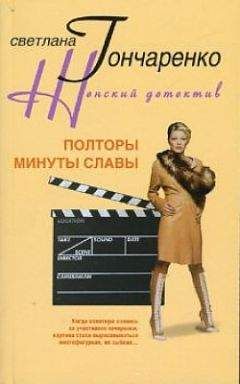Летом начинался пленэр. Таскание тяжеленного этюдника-гроба и марких холстов да еще и выезды в скучнейшие живописные места были для Тошика хуже каторги. На первом курсе он, правда, пару раз писал с натуры кривые домишки в старом Нетске. Но скоро за этюды засели обожавшие Тошика мама, Нелли Ивановна, зубной врач по профессии, и старшая сестра Саша, студентка стоматологического института.
Семья Супрун была на редкость дружная и симпатичная — все трое черноглазые, с кукольными улыбчивыми лицами, отзывчивые, веселые и нежадные. Тошик оказался прекрасным сыном и братом. Несмотря на свою античную лень, он безотказно бегал в булочную, выносил мусор, лепил фамильные тройные пельмени, чистил селедку и даже отвечал в телефон строгим женским голосом, что Саша уехала к тете Ире и не скоро будет (красавицу сестру вечно одолевали назойливые поклонники). В ответ мать и сестра писали за Тошика не только курсовые работы по всевозможным теоретическим предметам. Они брались и за живописные полотна. Получалось это у них так себе, но ненамного хуже, чем у самого Тошика. За первый же семестр семья заслужила твердую тройку.
Впоследствии слишком усердно трудиться им не пришлось: Тошик додумался летние этюды переделывать в зимние, замазывая траву белилами и лишая деревья листвы. К весне на тех же холстах трава изображалась вновь и бодро зеленела до новой зимы. Сейчас Тошик заканчивал четвертый курс, поэтому красочный слой на его вечно живых творениях уже достиг чудовищной толщины. Педагоги удивлялись, отчего Супрун так смел и пастозен в этюдах, тогда как в мастерской постановки мажет жиденько. Тошик тайны не раскрывал и только обаятельно улыбался.
В сериал «Единственная» он попал случайно. Его, собственно, туда и не приглашали. Работать в сериале собиралась Настя Самоварова. Настя нынче заканчивала художественный институт и успешно поучаствовала в нескольких театральных проектах. Однако Настя завязла в другой работе. В сериал вместо себя она предложила однокурсника Валерика Елпидина, чрезвычайно способного живописца.
Валерик нуждался в деньгах и за дело взялся. Но был он человеком слишком тонким, интравертным, сосредоточенным в себе. Его изнуряла сама обстановка съемок — шумная, суетливая и невнятная. Он понял, что не сможет существовать в таком бедламе. Подводить группу и Настю тоже не хотелось. Он мучился, худел на глазах и с горя почти забросил собственную живопись.
Спас его только случай: на съемки с ним как-то напросился любопытный смешливый парень с четвертого курса. Парень бредил голливудскими блокбастерами и мечтал увидеть, как делаются сериалы. Валерик провел Тошика (любознательным парнем был, разумеется, он) в павильон номер 1.
Пыльные балочные перекрытия цеха, увешанные софитами, и камера Ника Дубарева произвели на новичка неизгладимое впечатление. Тошик тоже всем понравился: он притащил с собой пакет вкуснейших домашних пирожков и четырех породистых крыс, которые по свистку умели прятаться у хозяина за пазухой.
Никто и не заметил, как Тошик зачастил на съемки. Он прижился в группе и сделался, как всегда, всеобщим любимцем. Плохой живописец и нерадивый студент стал здесь незаменим. Он наполнил просторы цеха — бесприютные, гулкие, гиблые, где не жили даже пауки, — всяким забавным хламом. Ловко подкрасив и подшаманив эту рухлядь, он превратил ее в живые и шикарные вещицы. Это именно Тошик в полчаса соорудил из перевернутого на спину шифоньера знаменитую кровать француза Островского.
В конце концов Тошка принялся сам придумывать и строить эффектные декорации. Всякая надобность в занудном и некоммуникабельном Валерике отпала. Сам Валерик тоже был счастлив избавиться от постылого сериала. Тошик же понял, что не зря так долго возился с пластилином и петардами. Надо же, оказывается, кино — его призвание!
Семья Супрун поодиночке никогда не действовала. Они обязательно держались втроем. Вскоре в павильоне появилась мама Тошика, Нелли Ивановна, с сумкой чудесной домашней снеди. Народный артист Островский тут же начал протезировать челюсть в ее клинике.
Дело врастания семьи Супрун в съемочную группу довершил главный герой сериала Саша Рябов. Этот обладатель романтически необъятных бицепсов смертельно влюбился в свою тезку, Тошикову сестру. Такой казус очень порадовал и развлек многих в съемочной группе — к тому времени все они друг другу успели поднадоесть.
Любовь Рябова была немногословна и упорна. Она заключалась в том, что Саша просто высился рядом с воздушной юной стоматологичкой и молчал. Он олицетворял каменную стену, за которой мечтает оказаться всякая женщина. В угоду возлюбленной он трогательно опекал ее беспечного братца. Например, не далее как вчера он вывел с вечеринки и доставил домой Тошика, который напился какой-то ярко-зеленой слабоалкогольной гадости и совершенно не вязал лыка.
Лишь одно облачко омрачало радостное единение семейства Супрун со съемочной группой: у Тошика и многоопытной Катерины Галанкиной ни с того ни с сего вдруг тоже вспыхнул роман. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Даже сама Нелли Ивановна признавала, что связь зрелой, повидавшей виды, но пылкой женщины и свежего любопытного мальчика вполне естественна. Она говорила себе: такое со всеми случается, что-то подобное должно было произойти, долго это не продлится, это чистая физиология. Катерина еще далеко не худшая из бывалых стерв, какие могли бы подвернуться ребенку. Все-таки она известный режиссер и замужем и тому подобное. Но материнское сердце ныло. Вид Тошика, тающего от сексуальной горячки, вызывал у Нелли Ивановны тоску. Невозмутимая Катерина с ее властными и расхлябанными замашками так и стояла перед глазами несчастной матери. Даже живопись Нелли Ивановны в последнее время все чаще бывала выдержана в непроглядно-мрачной гамме.
Сестра Саша тоже не слишком жаловала Катерину. Она пробовала обратить внимание брата как на кривоватые Катеринины ноги, так и на собственных красавиц подруг. Пока из этого ничего не получалось.
В целом жизнь Тошки в съемочной группе протекала так интересно и радостно, что организовавший ее Валерик очень удивился, когда его протеже вдруг заявил по телефону:
— Ты меня втравил в дерьмо!
— Откуда дерьмо? Все так хорошо шло, — не поверил услышанному Валерик.
Тошик, держа мобильник возле уха, углубился в кусты сирени и бузины за павильоном номер 1. Он проводил взглядом внушительную фигуру майора Новикова. Майор прошагал к соседнему зданию, и Тошик продолжил:
— Шло-то хорошо, только все вышло. У нас тут какого-то мужика ножом пырнули. Прямо в кабинете у Карасевича!
— Ты сам видел?
— Как пырнули? Нет, конечно. Я и самого мужика не видел, только фото. Противный, мертвый, глаза под лоб — прямо мороз по коже. А Карасевич куда-то смылся. Менты нас весь день пытали: кто чего видел, кто что вчера делал?
— Любопытно. Только где тут дерьмо? У тебя алиби нет, что ли?
— Вроде бы есть. Но ты пойми, работа встала! До выяснения обстоятельств. Скажу я тебе, Валерик, одно: женщинам не верь, а главное, никогда их не люби. Они все садистки. Они способны первого встречного приковать наручниками к кровати!
Розовое на стенах, розовое на потолке. Почему розовое? Наверное, на софит поставили фильтр? Солнечный свет не может быть настолько ядовитым. Противный, неубедительный, тошнотворный цвет… Ну вот, так и есть — тошнит. Тошнит невероятно. Попить бы…
Ага, все-таки это не фильтр. Просто штора розовая. Откуда же, откуда взялась такая пошлятина? Хорошо бы закрыть глаза, но там, под веками, совсем уж дичь творится: все кишит красными пятнами, живыми червячками, огненными жилками. Кишит и бьется в правый висок. О, вот где собралась вся боль и тошнота!
Да где же это он? Что это? Бред?
Федор Витальевич Карасевич лежал в чужой кровати в чужой квартире. Он трудно поводил больными горячими глазами и ничего не узнавал. Видел розовые, в атласную крапинку обои, шкаф с резьбой, какой-то пуфик. Спальня? Чья спальня? Мебель новая, потому что пахнет нежило, как в магазине, — деревом и лаком. Дорогая мебель…
Карасевич долго силился разглядеть что-то темное, плавно-округлое, высившееся у него в ногах. На минуту ему даже привиделся степной курган, подернутый пыльным золотым туманцем. Но тут же он понял, что это резное кроватное изножье. А изголовье обито стеганым скользким атласом — он ощупал его, закинув назад руку. Рука была бессильная, но все-таки своя, в мелких черных волосках. Больше Федя не узнавал здесь ничего.
Он пошевелился под одеялом, понял, что совершенно голый, и застонал. Очень хотелось, чтобы ему принесли сейчас его одежду, воды, а еще лучше — о ужас, противно представить, но надо! — стопку водочки.
Карасевич стонал долго, пока не устал. Никакого ответа не было. Тишина вокруг стояла такая глухая, что, казалось, голос таял прямо у рта, как белое дыхание в мороз, и никуда больше не распространялся. Тишина, только в ушах шумит — шу-шу. Шу-шу. Черт, ведь это он умирает!