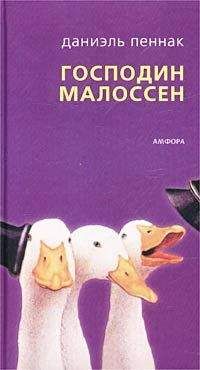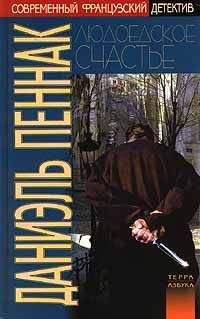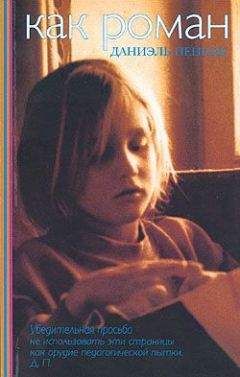Да.
Дело сделано, и тридцатиэтажная махина раздавила кабачок Шестьсу.
Шестьсу умер с набитыми карманами.
Его призрак отправился к Рамону Бельвильскому, продавцу снега, и обменял свой барыш на белый порошок. Не желая шататься каждый день по дилерам, Шестьсу закупил сразу целый Монблан. Талы абади, как говорят арабы, «вечные снега». Хватит, чтобы не вешать нос до самой второй смерти, и еще останется. (Некоторые предпочитают прятать свои сокровища в носках да по комодам…)
– Не боишься хранить у себя столько коки? – поинтересовался Рамон.
– А кроме тебя, никому не придет в голову обворовывать меня, – заметил Шестьсу.
И добавил:
– Можешь сам убедиться. Моя дверь всегда открыта.
Рамон только отшутился:
– Черномазому угольщику кончить по уши в белом…
***
Опустошая днем, восполняя ночью, Шестьсу спал только по воскресеньям. Воскресенье было для него не днем отдыха, а днем сна. Сон не приносил ему бодрости; расслабляя лишь тело; душа пребывала все в том же напряженном сознании. Он вел свой бой в арьергарде, и он знал это. Вокруг него продолжали рушиться дома, он по-прежнему фотографировал, чем дальше, тем больше, понимая, что не за горами тот день, когда фотографировать будет нечего. Бельвиль и Менильмонтан умирали. Какой тут отдых! Будет спать человек, который умирает? С тех пор, как Шестьсу перестал жить, он спал в кресле, сидя прямо, лицом к скачущей зебре.
Шестьсу снял себе клеть в самом отвратительном на вид здании на всем Бельвильском бульваре. Сверкая новизной, оно походило на металлопластиковый детский конструктор, с башней авианосца на макушке, что, должно быть, являлось предметом особой гордости архитектора. По прошествии нескольких месяцев плавания железо пошло ржавчиной, и авианосец стоял на приколе у тротуара, как в заброшенном порту, из которого море давным-давно отступило. Шестьсу поселился в этом здании, чтобы не смотреть на него.
Из окна он видел скачущую зебру. Его вторая жизнь держалась за гриву полосатого скакуна.
Если бы Шестьсу не умер тогда, то непременно сделал бы попытку завоевать Сюзанну, амазонку, оседлавшую эту лошадку, но чем он, призрак, мог утешить женщину, чья зебра была обречена? Он отступился. Он любил Сюзанну издали, молча. Сюзанну, которую Жереми Малоссен назвал Сюзанной О’Голубые Глаза. Потому что и в самом деле при желании в ее глазах можно было разглядеть Ирландию.
Шестьсу хранил эту невинную любовь в секрете. Он никому ничего не говорил. Даже Жервезе, дочери старого Тяня, которую он будил каждое утро по телефону. Жервеза наводила порядок в воспоминаниях Шестьсу. Раз в месяц он приносил ей снимки Бельвиля, теперь уже мертвого. И Жервеза составляла из них альбом живых картин, которые Шестьсу всегда носил с собой, но никогда не позволял себе на них смотреть. Эта дружба с Жервезой тоже была такая секретная, что Шестьсу ни с кем о ней и словом не обмолвился, даже с Сюзанной.
Такими были две женщины его второй жизни. Единственная женщина его первой жизни, Одетта, его жена, умерла и слишком бедной, чтобы оставить ему что-нибудь, кроме маленького зеркальца в медной оправе, и слишком юной, чтобы в этой лужице света запечатлелось воспоминание о ее лице. Теперь, спустя годы, в зеркальце Одетты отражались только ноздри Шестьсу, склонившегося над утренней порошей.
***
Три первых действия Шестьсу по пробуждении:
1 ) стянуть ноздрями сибирские снега со слепого зеркальца;
2) поприветствовать скачущую зебру;
3) позвонить Жервезе.
Ритуал, неизменный в религиозной строгости своего порядка.
***
Проснулся Шестьсу на следующий день, в воскресенье, ровно в одиннадцать, и, надо сказать, не без легкого удивления.
Жив.
Значит, пес предрекал что-то другое.
Ладно.
Шестьсу высыпал полоской цепь белых гор на испещренную мелкими пятнышками гладь зеркала. Тройная воскресная доза: сегодня выходной. Рука не дрожит: нет ни впадин, ни утесов, ровная и довольно высокая горная цепь. Которую он оприходует в четыре приема, как всегда по воскресеньям.
Поднеся зеркало к носу, Шестьсу втянул первую порцию. Пока правая ноздря поднимала смерч на гребне белого хребта, левый глаз заметил отсутствие чего-то, там, с противоположной стороны бульвара. Шестьсу поднял глаза: у зебры больше не было головы.
Шалишь.
Поскольку бешеная собака украла несколько часов его сна, Шестьсу списал только что виденное на усталость.
Но при второй затяжке, по мере того как сокращалась белая дорожка на поверхности зеркала, зебра успела потерять шею, туловище и ноги до самых задних копыт.
Нет больше зебры.
На этот раз Шестьсу обвинил во всем свою старость. Опустошающее действие снега. Горная цепь с каждым разом все выше, пещеры все глубже, все ненасытнее, никто не может устоять перед этим, и он – не исключение. Но он уже знал, что обманывает себя. Он знал, что обзывает себя маразматиком из-за любви к этой зебре. Заглушая внутреннюю тревогу, он утешал себя, что на третий раз зебра снова появится, запечатленная в живом великолепии своего прыжка.
Однако не только зебра не появилась, но и фронтон кинотеатра пал к ее копытам, и следом за ними бесшумно растаял фасад.
Яйца всмятку. Шестьсу узнал этот мужской страх, который два или три раза за всю его жизнь возвещал ему о чем-то непоправимом.
Собрав все свои силы, он поднялся. Кресло опрокинулось и выехало на спинке в середину комнаты. Держась за оконную раму, Шестьсу понял наконец, что предвещала им всем собака.
Истребление «Зебры».
Последнего кинотеатра Бельвиля больше не было.
Полицейское оцепление окружало пустоту, образовавшуюся на месте исчезнувшего здания. Кордон сдерживал бельвильскую толпу. Шестьсу разглядел семейство Бен-Тайеба и всех тех, с кем его свел Бельвиль. Арабы и негры всех Африк, армяне и евреи всех скитаний, китайцы неисчислимого Китая, греки, турки, сербы и хорваты объединенной Европы, и правда единой, старики и молодежь, мужчины и женщины, иудеи, христиане и мусульмане, собаки и голуби, – все молчали. И такой мертвой была тишина, такой неподвижной планета, что казалось – нет ничего, кроме этой воронки, оставшейся от вырванной «Зебры», которая вчера еще крепко сидела, зажатая со всех сторон новыми зданиями. И сама пустота как будто не верила в это и дрожала в оцепенении от собственного небытия.
Шестьсу стал искать в этой каменной толпе Сюзанну. Она стояла рядом с Малоссеном и Жюли, посреди скучившегося вокруг них остального племени.
У края ограждения, сдерживавшего толпу, какой-то правительственный чинуша переговаривался с судебным исполнителем Ла-Эрсом и его принаряженной супругой.
Руки Шестьсу Белого Снега опустились. Через секунду в его комнате с задернутыми шторами воцарился полумрак, как будто и не рассветало.
Он зажег небольшую настольную лампу, снял трубку, набрал номер Жервезы и стал ждать. Потом раздался щелчок, и ее голос ответил, что никого нет дома.
Шестьсу это не удивило.
– Когда нечего ответить, подключают автоответчик.
Ему было сказано, что он должен оставить последнее сообщение своей жизни в пластмассовой коробке, где крутилась нескончаемая пленка.
Что ж, он заговорил:
– Ну вот, сестренка, все кончено. У них был свой закон; а не было закона – заменяли пожаром. Теперь у них новая система. Чисто и быстро. Не успеешь даже сфотографировать напоследок. Они только что отобрали у нас «Зебру». Что до меня…
Он запнулся. Подыскивал слова. Но кассета крутилась, нужно было соображать быстрее. Он хотел сказать ей что-то нежное, что-нибудь такое, что лишь она одна могла понять, как-то по особенному попрощаться.
Он сказал:
– Что до меня, моя маленькая Жервеза, выставляюсь на всеобщее обозрение.
Он не повесил трубку.
Загудело «занято».
Навсегда.
Он выдвинул ящик маленького стола, вынул конверт, давно уже приготовленный и запечатанный, и положил его здесь же, на видное место.
Снял брюки, носки, тапочки, аккуратно расстегнул жилет и овернские кальсоны, которые наглухо закрывали его тело, от кистей до лодыжек.
Раздевшись догола, он поднял кресло, поставил его на середину комнаты, перед зеркальным шкафом, под самыми подвесками люстры. Снял люстру, спустился с кресла, положил люстру на пол и достал из нижнего ящика шкафа веревку. Эту веревку он всегда держал наготове, с того самого дня, когда началась расправа над площадью Празднеств. Некоторые веревки, уже когда их плетут, знают, на что их употребят.
Он снова залез на кресло.
Привязал веревку вместо люстры. Проверил надежность крюка. Он надеялся, что сегодняшние архитекторы хоть это сделали как следует: крюк, способный выдержать груз отчаяния, предоставленного вместе с квартирой.
Завязал скользящий узел, которому еще отец отца научил его, чтобы надевать на рога коровам во время дойки. Просунул голову в петлю, которую и затянул у себя на шее, с тщательной неторопливостью, совсем как выходной галстук.