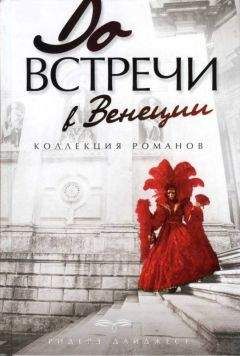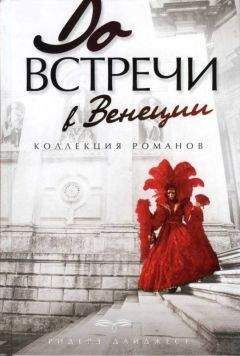— Ну, попробовать-то можно, — улыбнулся он. И спросил: — Вы съесть ничего не хотите? Я тут оладьи заказал. С финиками и орешками, они мне нравятся больше всего. И те, что с отрубями, тоже неплохи. В общем, они здесь все хороши. Домашние. И кувшинчик кофе. Вы ведь любите кофе, я запомнил.
Колено Гаса подрагивало, словно в такт какой-то быстрой музыке.
Я улыбнулся:
— Расслабьтесь, Гас, вы слишком напряжены.
— Это я из-за вас нервничаю.
— Из-за меня? — сказал я. — Когда я появился, вы уже выглядели здорово взвинченным.
— Ладно, — ответил он. — Я нервничаю из-за себя. Все время чувствую себя измотанным. К тому же вы не сказали мне, зачем вам потребовалось увидеться со мной. И от этого я разнервничался еще сильнее. Так в чем дело?
— Я разговаривал вчера с Лили Капецца.
— С кем?
— С адвокатом вашей жены.
— Я не… — Его взгляд переместился на что-то, находившееся у меня за спиной.
Подошла официантка. Она опустила на стол перед Гасом тарелку с оладьями и поставила между нами кувшинчик из нержавейки, две чашки и кувшинчик поменьше, со сливками.
— Не хотите взглянуть на меню, сэр? — спросила она у меня.
Я указал на оладьи Гаса и попросил:
— Принесите, пожалуйста, одну такую оладью с финиками и орехами. Только подогрейте.
— Они все горячие, — ответила официантка. — Только что с плиты.
Она отошла, я наполнил две чашки кофе.
Гас посмотрел, как удаляется официантка, потом взглянул на меня и спросил:
— Так что сказала вам адвокат Клодии?
— Готов поспорить, что вам это уже известно. — Я коснулся его руки. — Черт побери, Гас. Вы должны быть откровенны со мной. Мне захотелось просто-напросто отказаться от вашего дела.
— Разве вы можете? Отказаться? Я не думал…
— Разумеется, могу. И испытал сильное искушение так и поступить.
— Из-за судебного запрета?
— Вы угрожали пистолетом жене и детям. Вам вообще хочется когда-нибудь снова увидеть ваших девочек? И как прикажете защищать вас, если вы утаиваете от меня такие подробности?
— Я боялся, что вы не возьметесь за мое дело.
— Единственная причина, по которой я не взялся бы за него, — это ваше вранье.
Он поднял на меня взгляд:
— Я не угрожал им.
— То есть вы не размахивали пистолетом в своей гостиной?
— Ну, в общем-то, размахивал, что-то вроде этого было, однако…
— А Клодия выгнала вас из дома и добилась от суда постановления «два ноль девять А», так?
— Да, так. Но только все было иначе. — Он уставился в стол и пробормотал: — Я угрожал скорее себе.
— Вы хотите сказать, что грозились покончить с собой?
— Я не собирался делать это, — сказал Гас. — И не сделал бы. Проклятый пистолет даже заряжен не был. Просто… Я был сильно расстроен, понимаете?
— Расстроен, — повторил я.
— Все шло наперекосяк. Я не мог спать. Моя несуществующая кисть болела не переставая. Дети боялись подходить ко мне. А Клодия… Я был уверен, что у нее кто-то есть. — Он покачал головой. — Не знаю, почему я так поступил. Наверное, хотел привлечь к себе внимание Клодии.
— А ваша группа? — спросил я. — Она вам не помогала?
— Я как раз о ней и разговаривал сейчас с Питом. О нашей группе.
— Он тоже в ней состоит?
Гас кивнул.
— У него какие-то проблемы?
— Есть вещи, которых мне не хотелось бы касаться.
— Да пожалуйста, — сказал я. — Я всего лишь адвокат, занимающийся вашим разводом.
Официантка принесла мою оладью. Я разломил ее пополам, и над ней поднялся парок. Я смазал одну половинку маслом, откусил кусочек.
— На пятницу у меня назначена встреча с адвокатом Капецца, — сказал я. — Она поможет мне по крайней мере понять, чего ждет от вашего развода Клодия. А я объясню Капецца, чего ждете от него вы. Я собираюсь добиваться совместной опеки над детьми, это правильно?
Он кивнул.
— Однако с учетом того, что вы натворили, мы можем ее и не получить. Я намерен также сделать все возможное для защиты ваших прав на принадлежащую вам интеллектуальную собственность.
— Это вы о моих старых фотографиях?
— И о старых, — подтвердил я, — и о тех, которые вы еще наснимаете. Они могут принести вам доход, поэтому необходимо точно установить, как он будет распределяться. А это может оказаться делом довольно заковыристым.
— С чего вы решили, будто я еще что-то наснимаю? — спросил он.
— Вы фотожурналист, — ответил я. — Вы сами так сказали. Это записано в вашей ДНК. И вечно отговариваться утратой руки вам не удастся.
— Знаете, вы иногда бываете уж больно резким, — улыбнулся Гас.
— А вы иногда бываете уж больно негативным.
Он пожал плечами:
— Ладно, стало быть, моя интеллектуальная собственность. Это хорошо. Я о ней как-то и не думал никогда.
Я откусил еще кусочек и попросил:
— Расскажите мне о вашем пистолете.
— Пистолета больше нет, — сказал Гас. — Я выбросил его в реку. За домом, в котором теперь живу.
— Он был зарегистрирован?
Гас покачал головой:
— Я привез его из-за границы.
— Из Ирака?
— Да, в вещмешке.
«Еще один триумф службы безопасности аэропорта», — подумал я.
— Зачем он вам понадобился?
— Там это стандартное оружие. «Беретта M-девять». Пистолеты носят с собой все и каждый. Журналисты, повара, капелланы, врачи.
— Стало быть, никаких документальных доказательств того, что вы владели оружием, не существует, так?
Гас покачал головой:
— Я купил его у одного солдата. А вернувшись сюда, так и не зарегистрировал.
— Как не существует и доказательств того, что вы от него избавились.
— Не существует. Я просто выбросил его.
— Ну хорошо, Гас, — сказал я. — О каких еще правдах и неправдах вам стоило бы мне поведать?
Гас взглянул мне прямо в глаза:
— Их нет. Никаких. Честное слово, Брейди. Это все.
Я тоже смотрел ему в глаза, пытаясь отыскать в них признаки того, что он врет. Признаков я не увидел, однако знал: это вовсе не означает, что он говорит чистую правду.
— Ладно, а как подвигаются дела с документами, которые вы от меня получили?
— Честно говоря, — ответил он, — я в них еще не заглядывал. Я их побаиваюсь. Мне не хочется даже думать о них. Они меня угнетают.
Я улыбнулся. Вот это по крайней мере было чистой правдой, тут я нисколько не сомневался.
— Они всех угнетают, — сказал я. — Тем не менее заполнить их все-таки необходимо.
— У меня голова совсем другим занята, Брейди. — С минуту он промолчал, потом добавил: — Я заполню эти чертовы бумаги, обещаю.
— Так у вас и выбора-то нет, — сказал я.
Он кивнул:
— Знаете, поначалу я был здорово расстроен тем, что Клодия потребовала развода. А теперь уже нет. С тех пор как я вернулся, и она, и дети ничего, кроме неприятностей, от меня не получали, а все хлопоты, которые свалились на меня… ну, после того, как я съехал из дома? Они оказались к лучшему. То есть я наконец почувствовал себя лучше. — Он взглянул мне в лицо: — Можно мне спросить вас кое о чем?
— Разумеется. Конечно.
— Я подумываю о том, чтобы уложить вещички и смыться.
— То есть? — нахмурился я.
— Убраться отсюда к чертям подальше. Начать все заново где-нибудь далеко отсюда. Ну, скажем, на Таити, или на Бали, или в Дубае — что-то в этом роде.
— И вы спрашиваете, какого я на этот счет мнения?
Гас усмехнулся:
— Конечно нет. Вряд ли кто-нибудь назовет эту идею хорошей. А отрицательных отзывов на ее счет мне слышать не хочется.
— Тогда зачем вы мне о ней рассказали? — спросил я.
Он пожал плечами:
— Вы же мой адвокат. И могли бы помочь мне. Ну, то есть, если бы я вас попросил, вы бы мне помогли, верно?
— А вы просите?
— Нет. Забудьте об этом. — Он посмотрел на часы: — Ладно, мне пора на работу.
Вернувшись в тот вечер домой, я обнаружил на полу под дверью среди счетов и предложений приобрести кредитную карточку почтовый конверт с написанным от руки адресом. Я уж и не помнил, когда кто-нибудь в последний раз присылал мне письмо.
Адрес был написан зелеными чернилами, а четкие изгибы почерка Эви Баньон я узнал сразу. «Так-так, — подумал я, — письмо. Ничего хорошего ждать не приходится».
Я достал из холодильника бутылку пива, вышел в садик, опустился в деревянное кресло и вскрыл конверт. Письмо было написано на линованной белой бумаге.
Дорогой Брейди!
В Сосалито сейчас уже за полночь, туман. Я решила, что, если я позвоню тебе по телефону, ты уже будешь дома и ответишь на звонок. А мне не хочется разговаривать. Хочется только, чтобы ты выслушал меня.
Папа спит. Дела его не очень хороши. Мы просто живем одним днем.
Вчера я договорилась о том, что буду задерживаться в больнице подольше. По правде сказать, я не уверена, что мне хочется возвращаться к моей прежней работе.