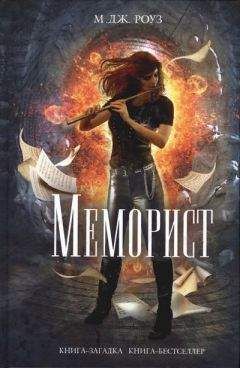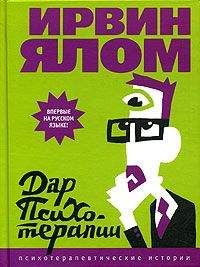Всего через несколько минут после того, как такси отъехало от гостиницы «Захер», дорога стала тряской, и Меер выглянула в окно.
— Булыжник, — на сносном английском объяснил водитель. — Я сразу узнаю туристов. Как только мы начинаем прыгать на этих улицах, они удивляются. Мы въехали в Шпиттльберг, самую древнюю часть города.
Как ни странно, этот неровный ритм подействовал на Меер успокаивающе, как и двух- и трехэтажные дома, обступившие вплотную узкие улочки. Все выкрашенные в яркие цвета, почти на всех подоконниках горшки с цветами. Этот квартал напомнил Меер более старый, более облагороженный вариант нью-йоркского Гринвич-Вилледж. Проехав еще несколько ярдов, водитель остановил машину на левой стороне улицы у дома номер 83 по Киртхенгассе, бледно-голубого трехэтажного здания с темно-зелеными ставнями. Именно здесь жил отец Меер.
Логан позвонила. На двери висел венок из высушенных лавровых листьев, и девушка, дожидаясь, когда отец ей откроет, принялась их считать. Дойдя до двенадцати, она позвонила снова. На двадцати двух она заключила, что его нет дома.
Поскольку Меер решила лететь в Вену только вчера и заказала билет в самую последнюю минуту, у нее не было времени, чтобы предупредить о своем приезде. Вчера вечером в ожидании посадки она позвонила отцу домой, попала на автоответчик и оставила сообщение, что если самолет приземлится по расписанию, она сначала отправится в гостиницу и только потом часов в одиннадцать заглянет к нему в гости. Конечно, она приехала слишком рано, но неужели отец отлучился из дома перед самым ее предполагаемым визитом? Впрочем, у него могло быть какое-то неотложное дело, которое он не успел перенести, потому что получил ее сообщение в самый последний момент. Но разве в этом случае отец не оставил бы ей записку… или не позвонил бы на сотовый? Вот только в спешке Меер забыла подключить европейский роуминг, так что проверить это было нельзя.
Быть может, отец не услышал звонок, потому что был в душе и вышел оттуда только что. Твердо решив, что это будет последний раз, молодая женщина снова нажала кнопку, слушая фальшивую мелодию — вот здесь вместо бемоля должен быть диез.
В детстве Меер изобрела язык, состоящий из музыкальных звуков; целые мысли и предложения можно было выразить последовательностью нот. Живя внутри звуков, она привыкла к тому, что все окружающие остаются снаружи, но ее отец научился говорить на этом языке, установившем между ними особую связь. «Теперь мне придется переводить ему мелодию звонка», — мысленно улыбнулась Меер.
Когда трель закончилась, девушка приложила ухо к двери. Где-то в глубине дома играла музыка, но звука шагов по-прежнему не было. Меер взглянула на часы: без десяти девять.
Ее внимание отвлекло жужжание пчелы. Неторопливое и обстоятельное, оно было по-своему мелодичным. Пчела покружила вокруг красной бегонии, на мгновение присела на цветок лаванды и, наконец, залетела в дом в открытое окно.
Окно открыто? Почему она это не заметила? Перегнувшись через горшки с цветами, Меер просунула голову внутрь и крикнула.
Ответа не последовало.
Меер устала, ее терпение было на исходе. «В конце концов, это ведь дом моего отца, так что я не вторгаюсь в чужое жилище», — подумала она, забираясь на подоконник и спрыгивая на пол. После яркого солнечного света ее глазам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полумраку внутри. На полу рядом с диваном возвышалась груда книг, дверь шкафа была распахнута настежь. Разрываясь между звуками музыки и запахом кофе, Меер остановилась на музыке и в конце концов оказалась в отцовской библиотеке. Полки от пола до потолка были заставлены таким огромным количеством книг, что у девушки мелькнула мысль: если они свалятся на нее все сразу, то раздавят своим весом.
На письменном столе была рассыпана большая стопка бумаг, выдвинутый ящик зиял широко раскрытым в крике ртом. Отец всегда отличался неаккуратностью, но это было уже слишком. К этому времени звучащая на заднем плане музыка уже проникла в сознание Меер, и она правой рукой машинально нажимала нужные ноты. Быть может, ничего плохого не случилось, и ее лишь заворожили печальные звуки симфонии. Просто поразительно, как человек откликается на мажоры и миноры на уровне, выходящем за границы сознания. В Куполе памяти один из разделов был посвящен теории Юнга о коллективном подсознании применительно к музыкальной памяти. Почему племя африканских бушменов, никогда не слышавших звуки скрипки, начинает плакать, услышав симфонию, призванную навевать грусть? Почему пятнадцатилетняя французская девушка, ни разу в жизни не бывавшая в Индии, без каких-либо дополнительных разъяснений впадает в состояние глубокой медитации, впервые услышав ситар? Или почему ребенок слышит призрачную музыку, которую, кроме него, больше никто не слышит, и ему становится так страшно, что он пытается от нее убежать? Снова и снова. Пытается убежать до сих пор.
«Трагическая увертюра» Иоганна Брамса зазвучала самыми зловещими нотами.
— Папа? — громко окликнула Меер, удивленная тем, что в ее голосе прозвучало столько страха.
Ответом ей стала только музыка. Меланхоличные кларнеты уступили место быстрому и громкому финалу.
— …Wien Philharmonics geleitet von Simon Posner[9].
Меер стремительно обернулась, но у нее за спиной никого не было.
— Die Zeit ist neun dreißig[10]…
Только теперь до нее дошло, что это голос диктора радио, доносящийся из колонок стереосистемы, примостившихся на книжных полках. Но почему радио включено, когда дома никого нет? Должен же быть кто-нибудь, кому можно позвонить и узнать, где отец. Или, быть может, лучше просто вернуться в гостиницу и дождаться, когда он сам позвонит.
Выйдя в коридор, Меер повернула не вправо, а влево. За распахнутой дверью открылась спальня, где на первый взгляд все было в порядке. Быть может, она напрасно встревожилась. Теперь по радио передавали сюиту из балета «Жар-птица» Стравинского. Задержавшись, Меер слушала жизнерадостную мелодию двадцать секунд, минуту, и тут, когда она, наконец, несколько успокоилась, до нее дошел аромат. Вербена. Сколько себя помнила Меер, таким одеколоном пользовался ее отец. Причем сейчас это было не тонкое дуновение, а плотное облако запаха. Переступив через порог, Меер увидела на туалетном столике лужицу золотистой жидкости и осколки флакона. Определенно, здесь что-то случилось.
Развернувшись, Меер направилась, как она полагала, в сторону гостиной и входной двери, но вместо этого оказалась на кухне, где ее внимание привлек звук равномерно падающих капель. Меер не могла объяснить, почему ей показалось так важно закрыть кран, перед тем как выйти из дома. По пути к раковине она споткнулась и опустила взгляд, ожидая увидеть ножку стула, но это была туфля. Меер наклонилась, чтобы убрать туфлю с дороги. Вот только туфля оказалась надетой на ногу. Под столом кто-то лежал. Отец?
Девушка сглотнула готовый сорваться крик. Ее дыхание выплескивалось судорожным хрипом. Опустившись на четвереньки, она заглянула под стол.
Нет, это был не отец, а какая-то незнакомая женщина. Лет шестидесяти. Коротко остриженные седые вьющиеся волосы, обрамляющие миловидное лицо. Одним взглядом Меер вобрала так много: большой багровый кровоподтек на правой щеке женщины, зигзаг засохшей крови, начинающийся в уголке губ, левая нога, судя по всему, сломанная, вывернутая под неестественным углом. Неужели эта женщина неловко упала? Но тогда почему она заползла под стол? Нет. Судя по тому, как у женщины были задраны рубашка и брюки, ее сюда затащили. На руке блеснули золотые часы.
— Не волнуйтесь, сейчас я вызову помощь… — сказала незнакомке Меер, в то же время мысленно обрабатывая безжизненную бледность лица, немигающие глаза и застывшую позу.
Быстро протянув руку, Меер схватила женщину за запястье. Ее кожа оказалась холодной. Такой же закоченевшей, какой несколько минут назад была сама Меер. Нет, холоднее. Неужели женщина мертва?
Раздался звонок в дверь, и в сознание Меер ворвалась фальшивая мелодия. Затем послышался крик: «Эй, есть кто-нибудь дома?» Мужской голос, низкий, с немецким акцентом.
Это был голос не ее отца.
Женева, Швейцария
Суббота, 26 апреля, 10.00
— Я очень признателен вам за то, что вы принесли оригинал письма, — сказал доктор Карл Сметтеринг, склоняясь над столом и всматриваясь в корявые, неразборчивые буквы, выведенные слегка выцветшими черными чернилами на пергаменте.
— Качество копии было близким к идеалу, — с сожалением промолвил Джереми Логан.
— Но все же это была копия. Раньше вас это никогда не беспокоило, что же произошло на этот раз?
— А вы разве не слышали о том, как месяц назад на аукционе «Сотбис» в Лондоне всего за несколько дней до торгов оригинал был подменен копией? Поддельный автограф был продан за несколько тысяч. Так и не удалось установить, как такое могло произойти, но с тех пор все мы стали более осторожны. А тут еще вчера информация об этом письме просочилась в «Трибьюн»…