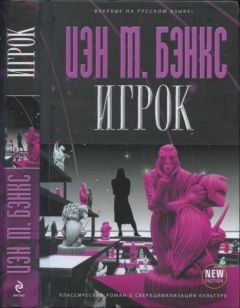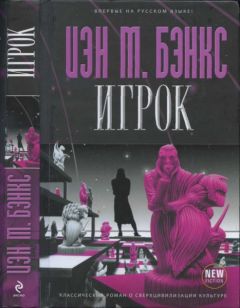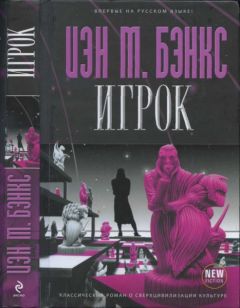— Как жизнь молодая?
— Отлично. А вы как поживаете?
— Неплохо, неплохо, — отозвался он, медленно покачивая головой.
В электрическом свете его седина неестественно поблескивала, глаза казались болезненно-желтыми. Реплики наши большим разнообразием не отличаются. Часто я задерживаюсь у него в лавке подольше, очень уж там приятно пахнет.
— А как дела у вашего дяди? Давненько что-то его не видел.
— Дела — просто замечательно.
— Это хорошо, — то ли сощурился, то ли скривился он и снова закивал. Я тоже кивнул и поглядел на часы.
— Ну, мне пора, — сказал я и стал отступать к двери, засовывая новую рогатку в рюкзачок на спине, а обернутые промасленной бумагой упаковки пулек — в карманы военной куртки.
— Что ж, пора, значит, пора, — констатировал мистер Маккензи и сгорбился над прилавком, словно изучая разложенные под стеклом наживки, катушки и манки; потом он взял тряпку, лежавшую возле кассы, и принялся медленно водить ею по стеклу, подняв голову, только когда я обратился к нему уже с порога:
— Ну до свидания.
— Да-да, до свидания.
В кафе «Морские дали» (являвшемся, судя по всему, ареной радикального и локализованного оседания почвы: чтобы из него открывался вид на воду, заведение должно было бы стоять по меньшей мере на этаж выше) я заказал чашку кофе и сыграл в «Космическое вторжение». Они установили новый игровой автомат, но, потратив фунт или около того, я освоился с техникой и даже выиграл призовую игру. Потом это мне наскучило, и я уселся пить кофе.
Я изучил афиши на стенах кафе, но ничего особо интересного в нашей окрестности в ближайшее время не ожидалось. Киноклуб зазывал на «Жестяной барабан», но так называлась книга, которую когда-то купил мне отец, это был настоящий подарок, большая редкость, так что читать ее я ни в коем случае не стал, равно как и «Майру Брекинридж», другой из его редких подарков. Как правило, он просто дает мне деньги, чтобы я сам покупал то, что мне нужно. Такое впечатление, что ему просто неинтересно; с другой стороны, он ни в чем мне не отказывает. Насколько я могу судить, между нами установилось нечто вроде молчаливого соглашения: я держу язык за зубами насчет того, что официально я как бы не существую, а взамен он позволяет мне заниматься на острове практически всем, чем угодно, и покупать в городе практически все, что мне нужно. Единственное, о чем мы на днях поспорили, — это мотоцикл; папа сказал, что не купит мне его, пока я не подрасту. Я же высказал скромное предположение, что лето, пожалуй, самое удачное время для такой покупки, тогда ведь я мог бы как следует попрактиковаться, пока нет гололеда, но папа считает, что летом в городе и вокруг слишком много туристов и чересчур оживленное движение. Помоему, он просто тянет время: то ли его не устраивает, что я стану слишком независим, то ли он просто боится, что я разобьюсь, — молодежь часто бьется на мотоциклах, особенно поначалу. Короче, не знаю; его настоящие чувства ко мне — тайна за семью печатями. Впрочем, если подумать, то мои настоящие чувства к нему — тоже.
Вообще-то я надеялся встретить в городе кого-нибудь из знакомых, но пока что видел только старого Маккензи в «Охоте и рыболовстве» да толстуху миссис Стюарт в кафе, которая сидела за кофеваркой и зевая листала что-то «миллз-энд-буновское».[2] С другой стороны, знакомых у меня — раз-два, и обчелся. Единственный мой настоящий друг — это Джейми, правда, через него я познакомился еще кое с кем из ребят моего возраста, которых можно считать приятелями. Учитывая, что в школу я не хожу и к тому же вынужден делать вид, будто живу на острове лишь наездами, со сверстниками я почти не общался (за исключением разве что Эрика, но и он подолгу отсутствовал), а когда я начал было подумывать о том, что пора бы, как говорится, на мир посмотреть, себя показать, — Эрик спятил, и на какое-то время обстановка в городе сделалась несколько напряженная.
Матери стали пугать Эриком своих малолетних чад: веди, мол, себя хорошо, а то придет Эрик Колдхейм со своими ужасными червями и личинками, то-то поплачешь. С течением времени история — полагаю, это было неизбежно — подверглась небольшой корректировке: не будешь слушаться, говорили детям, придет Эрик и подожжет тебя (не твоего Тузика или Бобика — тебя самого). И — полагаю, это тоже было неизбежно — многие дети начали путать меня с Эриком или считать, что я горазд на такие же проделки. Или, может, их родители что-то подозревали насчет Блайта, Пола и Эсмерельды. Как бы то ни было, дети стали убегать от меня или выкрикивать издали всяческие оскорбления, так что я решил временно лечь на дно, свести визиты в город к необходимому минимуму. На меня и по сей день косо посматривают (как дети с подростками, так и взрослые), и я знаю, что некоторые матери стращают своих отпрысков: веди, мол, себя хорошо, а то придет Фрэнк и тебя заберет, — но меня это не волнует. Это я переживу.
Я сел на велосипед и покатил к дому, позабыв об осторожности: лужи я проскакивал на полном ходу, а перед Трамплином — участком тропинки, где после длинного спуска с дюны имеется пригорок, на котором немудрено и подлететь, — разогнался километров до сорока в час и в итоге с громким чвяком приземлился на раскисшую тропинку, чуть не угодив в кусты дрока, да еще и задницу отбил, так что впору было орать до самого дома. Но все обошлось. Отцу я сказал, что все в порядке и что обедать я приду через часполтора. Затем откатил велосипед к сараю, протер покрышки и раму моего Гравия, а потом изготовил несколько новых бомб — взамен израсходованных накануне, а также про запас. Я включил старый электрический рефлектор, не потому, что мне было холодно, а чтобы очень гигроскопичная смесь не впитывала влагу из сырого воздуха.
На самом деле я, конечно же, мечтаю о том, чтобы не надо было таскать каждый раз из города килограммовые пакеты сахара и жестянки гербицида, а потом набивать смесь в обрезки железных кожухов от электропроводки, которые Джейми-карлик добывает для меня на своей работе — на стройке в Портенейле, — при том что в подвале у нас хранится достаточно пороха, чтобы разнести вдребезги и пополам чуть не весь остров; но отец меня и близко к пороху не подпускает.
Это его отец, Колин Колдхейм, приобрел порох на соседнем судовом заводе, где разрезали корабли на лом. На заводе — который, кстати, давно успели закрыть — работал кто-то из его родственников и обнаружил, что у какого-то старого, допустим, эсминца остался в неприкосновенности один из пороховых погребов. Колин купил весь порох и использовал его для разведения огня. Взрывается порох только в замкнутом объеме, а так это идеальная растопка. Запасов хватило бы лет на двести, даже если бы папа тоже применял порох с той же интенсивностью, так что, видимо, Колин рассчитывал его перепродать. Когда-то папа действительно использовал порох для разжигания кухонной плиты, но это было давно. Бог знает сколько там еще этого добра; я видел огромные штабеля, на тюках даже сохранились штампы Королевского ВМФ, и я долго ломал голову, как бы оприходовать это богатство, но единственное, до чего я в итоге додумался, — это что можно было бы устроить подкоп из сарая и забирать порох из дальних рядов, так чтобы изнутри подвала запас казался нетронутым. Отец проверяет подвал примерно раз в две-три недели — опасливо спускается с фонарем и пересчитывает тюки, принюхивается и проверяет показания термометра с гигрометром.
В подвале приятная прохлада и совсем не сыро, хотя грунтовые воды должны залегать очень близко, и отец вроде бы знает, что делает, он уверен, что вещество не стало нестабильным, но, думаю, он все равно опасается, особенно после Бомбового Круга. (Снова виновен; опять вина моя. Второе мое убийство — и не исключено, что кто-то из родственников начал тогда что-то подозревать.) Впрочем, если он так боится, почему тогда все не выкинет? Наверно, у него тоже связано с этим порохом какое-нибудь суеверие. Связь с прошлым и все такое или злой таящийся демон, символ всех злодеяний нашего семейства, не иначе как ждет подходящего случая нас удивить.
Короче, к пороху мне не подобраться, так что я вынужден таскать из города железные трубки и всячески с ними уродоваться, выгибать и отпиливать, высверливать, обжимать и снова выгибать, так что верстак и весь сарай скрипят от натуги. Целое искусство, если подумать, по крайней мере квалификации требует немалой, и лишь мысль о том, на что применю плоды моих трудов, мешает мне все бросить, заставляет проливать семь потов над тисками.
Я прибрался в сарае, уничтожил все следы моего бомбоклепания и пошел обедать.
— Они его ищут, — вдруг произнес папа, прожевав очередную порцию капусты с соевым фаршем и готовясь закинуть в рот следующую.
Он блеснул на меня своими черными глазами, будто струей из огнемета опалил, и снова уткнулся в тарелку. Я хлебнул откупоренного к обеду пива. Эта партия вышла у меня лучше, чем предыдущая, да и крепче.