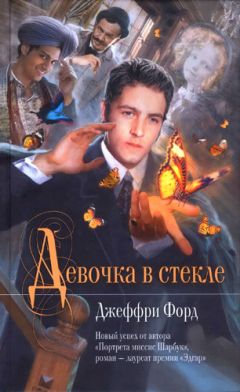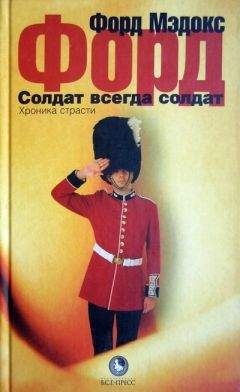— Я помню, мать говорила мне, что эти mariposas[38] — души мертвых, — сказал я.
— Ты часто вспоминаешь Мексику?
— Не вспоминал вовсе, пока не встретил Исабель. А теперь мне Мексика снится. Так, обрывки какие-то. Знаешь, что забавно? Я как раз думал о Мексике, когда ты заговорил об ацтеках.
— Может, нам следует съездить туда, чтобы оживить твои воспоминания.
Шелл перевернул левую руку ладонью вверх, и в ней оказалась колода карт для бриджа. Я так толком и не понял, откуда эта колода взялась. Начав манипулировать картами, Шелл сказал:
— Может, я был не прав в том, что тебе лучше забыть Мексику. Но именно этого я и хотел. Я думал, что, если ты всю жизнь будешь носить ее в себе, тебя будут угнетать воспоминания.
Я улыбнулся. Мне не хотелось волновать Шелла, и я махнул рукой.
— Я бы сказал, что мне здорово повезло.
— Интересно, — сказал Шелл, — вот когда гусеница становится бабочкой, — при этих словах он развернул колоду веером, — и начинает летать, она помнит, что это такое — быть гусеницей?
— Может, она просто счастлива оттого, что обрела свободу.
— Или, — Шелл сложил колоду, — все ее беспокойное порхание от цветка к цветку — это лишь попытка вернуться на стадию гусеницы? — Брови его взлетели вверх, и он пожал плечами.
Продолжая манипулировать картами — теперь уже с помощью обеих рук, — Шелл закрыл глаза, возвращаясь к своим размышлениям. Его мысли поначалу поразили меня своей проницательностью и глубиной, но чем дольше я сидел там, тем большее беспокойство вызывали у меня его слова. Точно определить, что меня так взволновало, я не мог, но это было как-то связано с приравниванием Мексики к гусенице.
На следующий день Лидия опять выходила из машины и обследовала местность при помощи своих особых способностей. В промежутках между остановками я развлекал ее и Антония избранными строфами из Иша-Упанишады. Голосом свами я декламировал торжественно-приподнято, демонстрируя уважение к тексту и в то же время насмешку над ним:
Когда однажды некто понимает, что в нем
Все существа стали им самим,
Когда однажды некто узрит сие единство,
Он перестает быть подверженным печали или недоумению.[39]
Антоний рассмеялся и объявил мою священную декламацию «бессмыслицей», а мисс Хаш похвалила мою способность к запоминанию. Она будто бы почти догадалась, в чем смысл этих слов. Я, как ребенок, жадный до внимания, затянул свое декламирование на целый час, пока сам себе не наскучил. После этого мы ехали мирно, в молчании, нарушаемом время от времени лишь шепотом Лидии — просьбой притормозить. Вскоре после ланча она — ни с того ни с сего — с придыханием исполнила «Пока идет время».[40]
Ее духи пахли свеженарезанным лимоном. Запах наполнял салон машины, у силача и у меня кружилась голова, так что, даже оставаясь вдвоем и поджидая Лидию у обочины, мы все равно молчали, думая про себя. Ее бледная красота завораживала; меня она наводила на мысли о пастиле, креме, облаках и снеге. Когда Лидия, привлекая внимание Антония, клала руку ему на плечо, я замечал, как тот вздрагивает, а я всякий раз испытывал укол ревности.
Только к концу дня, когда небо с приходом сумерек затянуло тучами и мы подъехали к кромке леса в небольшом городке под названием Маунт-Мизери, чары мисс Хаш рассеялись. Я сидел впереди, рядом с Антонием, который замурлыкал ту же песню, что она напевала раньше. Уже больше часа прошло с тех пор, как мисс Хаш исчезла из виду, словно призрак среди серых стволов под темнеющим небом. И только тогда вспомнил я то, о чем хотел сообщить Антонию еще утром.
— Да, — спросил я, — вчера, когда мы подобрали Шелла и выезжали от Барнсов… ты помнишь автомобиль, что попался нам навстречу?
Он затянулся сигаретой, сбил пепел за окно машины и ответил:
— Ну да, теперь, когда ты сказал, я вспомнил.
— Я попытался разглядеть, кто едет в машине, и я совершенно уверен: там было четверо мужчин — такие крупные ребята. Лиц я не разглядел, но вот что я точно знаю — на водителе была шляпа.
— И?
— Я думаю, это была та самая шляпа. Ну, которую надевал ты, когда был матерью Паркса.
Антоний несколько мгновений сидел неподвижно, осмысливая мои слова. Потом он повернулся ко мне, скосив глаза и нахмурив брови:
— С чего это ты взял?
— Тот же стиль, тот же цвет, те же большие поля. Если не ошибаюсь, в комиссионке нам ее продали как мужскую.
Он отвернулся и вперился взглядом в лобовое стекло.
— Черт, — сказал он. — Неужели Барнс ввозит выпивку из Канады?
— Зачем ему это?
— Ну, тут может быть миллион вариантов. — Антоний поднял правую руку и потер указательным и средним пальцами о большой. — Если у тебя немаленький бизнес, на этом можно заколотить ой какие деньги. Ты привозишь алкоголь на Лонг-Айленд, где нет копов, а под боком Нью-Йорк — только вези.
— Да ему-то это зачем?
Он хохотнул и потер подбородок.
— Незаконные действия выглядят совсем по-другому, если зеленых девать некуда, вот как у Барнса. У богатых свой собственный уголовный кодекс. Для них законно все, что приносит доход.
— Тут есть только одно «но»: мы должны сказать об этом Шеллу.
— Черт побери! — Антоний стукнул по баранке. — Мы ему непременно скажем. Лично я против бутлегерства ничего не имею. Сухой закон просто полная херня, но это дает нам кое-какие важные сведения о Барнсе. Ты уверен, что это та самая шляпа?
— Не совсем, но почти.
— Ну, блин, попал я в собственные сети. Моя афера провалилась.
— Не думаю, что для Шелла это важно. Он будет рад узнать что-нибудь новенькое о Барнсе.
— Да. Но если мы ему скажем, то дай бог, чтобы ты оказался прав. Я в этой истории буду выглядеть полным ослом.
— Успокойся. Этот случай как две капли воды похож на все остальные.
Мне удалось выскочить наружу, прежде чем Антоний успел меня схватить. Он высунулся из машины и попытался меня достать, но потом посмотрел туда, где я стоял, и сказал:
— Я тебя, малыш, все равно достану. Я завяжу этот тюрбан у тебя на шее.
— Беги всего, что движется в этом движущемся мире, а потом наслаждайся им, — проговорил я голосом свами.
— Хватит этой брехни, — оборвал меня он. — Минут через пятнадцать будет совсем темно. Где мисс Хаш?
— Ее уже давно нет.
— Слишком давно. Пора ее поискать.
— Кажется, она пошла сюда, — показал я на тропинку, петлявшую среди деревьев.
Несколько минут мы шли по тропинке, поглядывая во все стороны, но не нашли никаких следов нашей пассажирки.
— Мисс Хаш! — крикнул я.
Ответа не последовало.
Мы прошли еще немного до места, где тропинка разветвлялась.
— Лидия! — прогрохотал Антоний.
Мы прислушались, но в ответ раздалось только карканье ворон с вершин деревьев, да белка спрыгнула с насиженного места. Вокруг нас падали красные листья, присоединяясь к другим, уже лежавшим на земле.
— Давай, малыш, ты пойдешь сюда, — распорядился Антоний, показывая на правую тропинку, — а я — сюда. Продолжай ее звать. Если ничего не найдешь к тому времени, как стемнеет, возвращайся в машину.
— Хорошо.
Я пошел направо, выкрикивая имя Лидии.
Мы перекликались время от времени, и голос Антония был слышен далеко-далеко. Темнота быстро сгущалась, и я все спрашивал себя, куда мисс Хаш могла исчезнуть.
Минут пятнадцать спустя я был уже готов повернуть назад, но вдруг услышал какой-то звук. Я оглянулся и увидел ворону — она взлетела с упавшего дерева и устремилась куда-то между голых ветвей. Тут мне и попалось на глаза маленькое сооружение в сосновых зарослях. Это был полуразвалившийся старый сарай с толевой крышей. Я увидел разбитое окно, а правее — дверь, которая косо висела на кожаной верхней петле. Низ двери был оторван. В таких маленьких сарайчиках обычно держат садовые инструменты или дрова.
Я подошел к сараю, все так же окликая по пути мисс Хаш, только теперь чуть тише. В ответ — ничего. Я ступил на поросшую мхом бетонную площадку перед входом. В груди у меня копилась тревога. Я протянул руку и потащил на себя перекосившуюся дверь. Кожаная петля тут же порвалась, дверь упала и, пролетев рядом с моим плечом, рухнула на землю. Внутрь пролился еще не совсем погасший дневной свет, рассеяв тьму. Изнутри мне в нос сразу же ударил запах — отвратительная вонь плесени и сгнившего мяса. Мухи и мотыльки, жужжа, поднялись с чего-то, лежавшего на полу.
Я понял, что это она, даже не рассмотрев толком бледный силуэт у моих ног. Это была девочка Барнсов. Черви копошились в ее кудрявых волосах. Она лежала обнаженная и белая, как Лидия; от пояса до середины бедра ее укрывал кусочек материи какой-то странной округлой формы. Истлевшие глаза девочки были уставлены в потолок, и от ее вида у меня подогнулись колени. Внезапно запах усилился, и мой желудок чуть не вывернулся наизнанку. Я отвернулся от двери, споткнулся на бетонной площадке и грохнулся на холодную землю, выставив вперед руки, потом поднялся на четвереньки, и меня вырвало. Не знаю, как долго я так стоял, но кроме жужжания в ушах я слышал только шелест ветра в кронах и шорох листьев на земле.