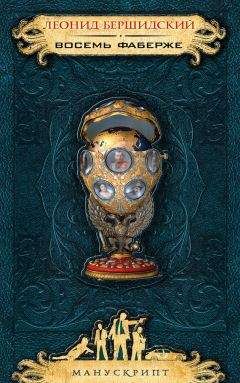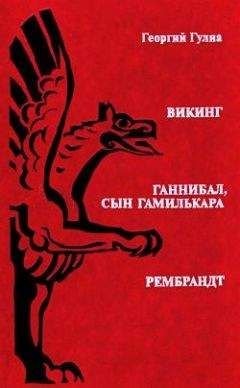– Ровно то же самое я сказал де Граффу. Но мне возразили, что другой портрет больше похож на оригинал.
– Кто же написал этот портрет?
– Ты знаешь этого художника. Его зовут Говерт Флинк. Ты неплохо его научил.
– Правда у него хорошо получилось? – Перед глазами Рембрандта вдруг встает давнишняя сцена в мастерской: он переворачивает холст и видит чужую «Бурю».
– Я бы сказал, что твой портрет сильнее, – медленно, обдумывая каждое слово, произносит Хендрик, и Рембрандт чувствует, что за таким началом непременно последует «но». – Твой выглядит живее и ярче. Но у Флинка – глаже, приятнее для глаза. Он почувствовал, что де Графф хочет выглядеть проницательным, мудрым, – и на его портрете де Графф так выглядит. А на твоем он грубоватый, властный.
– Хендрик, я написал столько портретов, что без хвастовства могу сказать, что вижу людей насквозь. Если его натура так явственно проступает на портрете, моя ли в том вина?
– Рембрандт, ты не слышишь меня. Разве тебя в чем-то обвиняют? Нет, тебе даже платят хорошие деньги за твою хорошую работу. Вопрос в том, много ли друзей ты так приобретешь. Или даже растеряешь тех, которые уже есть у тебя.
– По-моему, Рембрандт достаточно знаменит, чтобы не стараться понравиться каждому, – возражает кузену Саския. – У него достаточно заказов. Когда наши с тобой фризские родственники два года назад пожаловались на него в суд, будто он транжирит мое наследство, мы смогли доказать, что семья живет на его заработки. И кстати, друг Флинка, Фред Бол, давал показания в нашу пользу. Да и сам Флинк наш друг.
– Два года назад заказы были и сейчас тоже есть, – отвечает Хендрик. – Но будут ли они через год, два, пять лет? Мне сказали, Андрис де Графф подружился с Флинком. Тот ходит к нему в гости запросто, как к равному. И уже получил отличный заказ – писать гвардейскую роту, которой командует Андрис.
– Хендрик, я не хочу конкурировать с Флинком, – качает головой Рембрандт. – Он мой ученик, он всегда отзывается обо мне с уважением, я и вправду многому его научил. Просто он еще совсем молод, ему надо обрастать связями, надо искать поддержки. Он все делает правильно: здесь немного польстил, там пригладил… Ты же помнишь, я тоже так делал, когда только приехал в Амстердам.
Хендрик с недоумением смотрит на Рембрандта: он что, в самом деле верит в то, что говорит?
– Во-первых, это совсем не так. Я чуть ли не с первого твоего дня в городе слушаю, как ты клянешь проклятых лавочников и их одинаковые рожи. И твое отношение, конечно, проступает на картинах. Неужели ты не замечаешь, что к тебе все меньше приходят с заказами на портреты? Ты написал несколько исторических и библейских сцен, отлично, что тебе их заказали, – но ты должен же чувствовать, что отношение к тебе меняется? Это уже не Флинк конкурент тебе, а ты конкурент Флинку, будь он хоть сто раз твой друг!
– Это тебе твои товарищи по комиссии сказали? Или де Графф?
– Все они только об этом мне и твердили, каждый по-своему.
Рембрандт, набычившись, смотрит в пол.
– По-моему, зря ты волнуешься. – Саския кладет пухлую руку на колено ван Эйленбюрха. – Рембрандт ведь и не хотел брать столько заказов на портреты, сколько раньше. Он должен писать более сложные картины – это то, что ему нравится, то, что у него получается лучше всего.
– А вот этот довод, Саске, – совсем не про деньги, – горячится Хендрик. – Я отлично знаю, сколько вы заплатили за этот дом, я сам к нему приценивался. Тринадцать тысяч флоринов! И ведь вы еще купили его в кредит! Как вы собираетесь расплачиваться, если твой муж не будет писать портреты или, чего доброго, впадет в немилость у городского совета?
– Как-нибудь расплатимся, – надувает губы Саския. – Спасибо, что так беспокоишься о нас, кузен, но, право, мы и сами не дадим себя в обиду.
– Зря ты так защищаешь его, сестрица, – как бы не пришлось тебе скоро вспоминать мои слова и горько плакать.
Хендрик поднимается, берет в руки шляпу.
– Погоди. – Рембрандт останавливает родственника. – Я услышал тебя. Что бы ты посоветовал?
– Тебе нужны покровители. Давай решим, кому мы могли бы подарить портрет. Приятный портрет, который показал бы, чем ты лучше Флинка.
– Спасибо, Хендрик, я подумаю об этом. Я очень ценю твою дружбу; конечно, ты хочешь как лучше.
Рембрандт провожает торговца картинами до двери и возвращается к жене, все еще потягивающей чай.
– Как ты думаешь, прав Хендрик? Сделаем так, как он предлагает?
– Это, конечно, твое дело. – Саския решительным движением ставит чашку на стол. – Но ты уже не мальчик, чтобы дарить свои работы и искать покровителей. Ты знаешь, кто ты такой, и я знаю, и все, кто хоть что-то понимает в живописи, тоже знают. Не бойся ничего.
В тот же день Рембрандт раскапывает в углу мастерской свою незаконченную «Бурю». После истории с Руффо он соскреб часть уже написанного: чтобы преподать Флинку настоящий урок, надо, чтобы работа мастера была заметно сильнее, чем получилось у подмастерья. Но потом Рембрандт так и не нашел в себе сил завершить начатое: картина не складывалась у него в голове, все время казалось, что он мысленно копирует ученика. Он плюнул и убрал подрамник в угол.
Теперь Рембрандт ставит его на мольберт. Семь лет прошло, доказывать уже нечего и некому. Флинка давно нет в мастерской. Самое время снова подумать о том, что может сделать учитель, разбуженный в бурю учениками. Ну, и помолиться богу, чтобы у них с Саске на этот раз родился здоровый ребенок. Сын.
Бостон, 2012
Первое, что видит Иван, разомкнув веки, – лицо Софьи. Пока он спал, она, значит, разглядывала его с такой вот легкой покровительственной улыбкой: мол, куда бы ты делся от меня, дурачок? А может, ей просто хорошо, ей нравится, что он рядом… В таких сомнениях, чувствует Иван, пройдет весь день и бог знает сколько еще времени.
Чтобы Софья перестала смотреть, он притягивает ее к себе. Хотя ее тело, конечно, изменилось – не могло не измениться за эту почти четверть века, – оно, с удивлением обнаруживает Иван, осталось ему родным. Прежние ощущения приходят без усилия, как будто только и ждали своего часа.
– Как будто мы все это время были вместе, – шепчет Софья ему на ухо. У нее, значит, все так же? Или что вообще все это значит? Кольнув Штарка напоследок, сомнения, а затем и все прочие мысли исчезают на время, пока Иван и Софья возвращаются друг к другу.
– Ты совсем как мальчик, – щекочет она ему ухо, отдышавшись.
– Я очень давно не был с женщиной, – объясняет он немного смущенно.
– Двадцать четыре года?
Иван смеется.
– Нет, все-таки не так долго.
– Ты женат? – Софья спрашивает так, будто ее это не очень интересует: просто поддерживает беседу.
– Был женат. – Иван предчувствует следующий вопрос и сразу на него отвечает: – Дочери тринадцать лет.
Софья гладит его татуировку.
– А это ты когда сделал?
– Когда в институте учился.
– Почему поросенок летит?
– Это мы с одним другом сделали одинаковые. Мы так понимали суть нашей будущей работы. Чтобы свиньи взлетали. Чтобы невозможное делалось возможным.
– Видишь, у тебя получается. Было ведь невозможно, чтобы мы встретились, да?
– Да, вот я прилетел, и…
Они хихикают, как подростки, и снова прижимаются друг к другу.
– А почему ты у меня ничего не спрашиваешь? – отстраняется Софья через минуту.
– Не хочу.
Она снова смеется и кладет голову ему на плечо. Так они лежат молча, пока у Ивана не начинает звонить телефон. Это Молинари. Перед тем как взять трубку, Иван бросает взгляд на часы: восемь утра. Софья поднимается и идет принимать душ.
– Вставай и сияй, – выпевает в трубке не-шерлок-холмс. – Как твоя вчерашняя встреча?
– Продолжается, – отвечает Иван. И тут же думает: это я что, хвастаюсь?
– Вау, не ожидал от тебя такой прыти, зануда, – смеется Том. – Познакомишь меня с дамой? Я просто сгораю от нетерпения.
– Сначала расскажу ей про тебя. Не волнуйся, я никуда не убегу.
– О’кей, буду ждать звонка.
Иван уверен, что ничего Молинари ждать не будет, а скоро снова позвонит сам.
Второй звонок раздается, пока Софья еще в душе.
– Иван, вы уже их видели? – интересуется Федяев.
– Пока не видел. Думаю, что увижу сегодня. Нам в любом случае понадобится время. На подтверждение подлинности. Надо ведь все сделать тихо, чтобы у вас все получилось, верно?
– Да, я понимаю. Просто мне важно знать, что вы не сидите сложа руки.
Вообще-то Иван лежит голый и расслабленный, пахнет Софьей, и ему лень сесть и сложить руки, не то что куда-то идти.
– Скорее лежу. Я только вчера прилетел, еще не адаптировался, – говорит он почти честно.
– Сообщите мне, пожалуйстиа, когда дело сдвинется. – Федяев, как всегда, проигнорировал провокацию.
Софья возвращается, обернув полотенце вокруг головы. Она совершенно не стесняется – впрочем, это никогда не было ей свойственно.