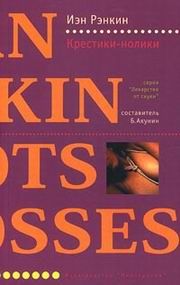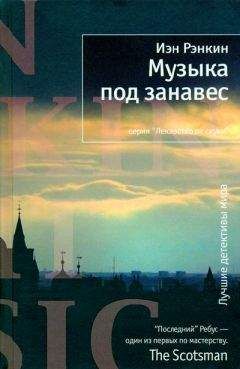— Эпизод из твоего прошлого? — Майкла уже разбирало любопытство. Возможно, похищение Саманты никакого отношения к нему не имеет. У него появилась надежда.
— Да, из прошлого. Но я не могу вспомнить. — Ребус потирал лоб, как предсказатель потирает свой хрустальный шар. Майкл рылся у себя в кармане.
— Я могу помочь тебе вспомнить, Джон.
— Как?
— Вот так. — Майкл держал между большим и указательным пальцами серебряную монету. — Вспомни, о чем я тебе рассказывал, Джон. Каждый день я возвращаю своих пациентов в их прошлые жизни. Вернуть же тебя в твое реальное прошлое будет, пожалуй, совсем не трудно.
Ошарашенный, Джон Ребус замер на стуле. Он даже протрезвел в мгновение ока.
— Ну что ж, попробуй, — согласился он. — Что я должен делать?
Но внутренний голос твердил ему: ты этого не хочешь, ты не хочешь этого знать. Нет! Он хочет знать. Майкл подошел к нему:
— Откинься на спинку стула. Устройся поудобнее. К виски больше не притрагивайся. Но помни, гипнозу поддаются не все. Не напрягайся. Не прилагай излишних стараний. Если у нас с тобой все получится, то это произойдет само собой, без усилий. Просто расслабься, Джон, расслабься.
Раздался звонок в дверь.
— Не обращай внимания, — сказал Ребус, но Майкл уже вышел из комнаты. Из коридора донеслись голоса, а когда Майкл появился вновь, вслед за ним в комнату вошла Джилл.
— Кажется, вот с этой дамой я и говорил по телефону, — сообщил Майкл.
— Как поживаешь, Джон? — На лице ее лежала печать беспокойства.
— Отлично, Джилл. Слушай, это мой брат Майкл. Гипнотизер. Он собирается погрузить меня в транс — ты ведь так это называешь, да, Мики? — чтобы устранить какой-то тормоз у меня в памяти. Приготовься, может, придется что-то записать.
Джилл переводила взгляд с одного брата на другого, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Прав Стивенс: братья Ребус — интересная парочка. Она работала шестнадцать часов подряд, а тут предстоит сеанс гипноза. Но она улыбнулась и пожала плечами:
— Можно девушке сперва выпить глоточек?
Настал черед Джона Ребуса улыбнуться.
— Пей, не церемонься, — сказал он. — Есть виски, виски с водой и вода. Давай, Мики. Продолжим. Сэмми нужно найти. Возможно, время еще есть.
Майкл, расставив ноги пошире, наклонился над Ребусом. Казалось, он стремится полностью слиться с братом, уподобившись ему: глаза приблизились вплотную к глазам Ребуса, губы шевелились, повторяя движения его губ. Так все это представлялось Джилл, наливавшей виски в стакан. Майкл держал в поднятой руке монету, пытаясь повернуть ее под нужным углом к единственной, неярко освещавшей комнату лампочке. Наконец свет отразился в Джоновой сетчатке, зрачки расширились и тут же сузились. Майкл был уверен, что брат легко поддастся внушению. Во всяком случае, очень надеялся.
— Слушай внимательно, Джон. Слушай мой голос. Смотри на монету, Джон. Смотри, как она блестит и вращается. Она вращается. Видишь, как она вращается, Джон? Теперь расслабься, просто слушай меня. И следи за вращением, смотри, как светится монета.
Ребус не сразу впал в транс; возможно, его подсознание сопротивлялось суггестивной силе голоса Майкла потому, что для Джона это был всего лишь голос брата, младшего братишки. Но потом Майкл увидел, что глаза Джона немного изменились, совсем немного, непосвященный бы и не заметил. А он принадлежал к числу посвященных. Отец хорошо его обучил. Его брат уже находился в промежуточном мире — завороженный сиянием монеты, он был готов перенестись туда, куда пожелает Майкл. Джон был в его власти. Как всегда в такие мгновения, Майкл почувствовал мелкую дрожь во всем теле: это была власть, власть абсолютная и безраздельная. Он мог делать со своими пациентами все что угодно.
— Майкл, — прошептала Джилл, — спросите его, почему он ушел из армии.
Майкл сглотнул слюну, смочив пересохшее горло. Да, это хороший вопрос. Он и сам хотел задать его Джону.
— Джон! — позвал он. — Почему ты ушел из армии, Джон? Что произошло? Почему ты ушел из армии? Расскажи нам, Джон.
И медленно, будто иностранец, с трудом подбирающий слова неродного языка, Ребус начал рассказывать свою историю. Джилл бросилась к своей сумочке за ручкой и блокнотом, Майкл потягивал виски.
Они слушали.
Когда мне исполнилось восемнадцать, я ушел служить в армию. Был десантником. Но потом решил добиться перевода в Специальный военно-воздушный полк. Почему я так поступил? Почему вообще солдаты идут в спецназ, несмотря на потерю в денежном довольствии? Я не могу ответить на этот вопрос. Но, как бы там ни было, я оказался в Херефордшире, в учебном лагере полка специального назначения. Этот лагерь я назвал «Крестом», поскольку меня предупредили, что придется пройти через крестные муки, и там, вместе с прочими добровольцами, я действительно прошел через ад: обучение, строевая подготовка, испытания, запугивание. Нас пытались сломить, чтобы выбить из нас все человеческое. Нас учили нести смерть.
В то время ходили слухи о неминуемой гражданской войне в Ольстере, о том, что специальный полк натаскивают на уничтожение мятежников. Настала пора получать знаки различия. В тот день нам выдали новые береты с кокардами. Мы стали бойцами спецназа. Но это еще не все. Командир вызвал нас с Гордоном Ривом к себе в кабинет и сказал, что мы двое признаны лучшими в команде новобранцев, прошедших боевую подготовку. Перед тем как стать кадровыми военными, мы должны были пройти двухлетнюю особую подготовку, но зато нам прочили блестящее будущее.
Едва мы вышли из здания, Рив со мной заговорил.
— Слушай, — сказал он, — я кое-что узнал. Я слышал, о чем говорили офицеры. Для нас готовится что-то грандиозное, Джонни. Грандиозное! Помяни мое слово!
Через несколько недель нас подвергли очередному испытанию — проверке на выживание. По нашему следу пустили ребят из других полков, которые, возьми они нас в плен, не остановились бы ни перед чем, лишь бы заполучить информацию о нашем задании. Чтобы прокормиться, нам приходилось охотиться и ставить капканы. Мы выжидали до темноты, а ночью двигались через продуваемую ветром вересковую пустошь. Нас было четверо, но отчего-то нам с Гордоном казалось, что звезды этой мрачной постановки — именно мы, он и я.
— Вот увидишь, нас ждет нечто особенное, — то и дело твердил Рив. — Я нутром чую.
Расположившись как-то раз на ночлег, мы едва успели влезть в спальные мешки, чтобы пару часов вздремнуть, как вдруг в палатку заглянул наш часовой.
— Тут такая штука, — сбивчиво забормотал он. — Даже не знаю, как и сказать… — Внезапно повсюду вспыхнули фонари и замелькали винтовки, палатку распороли, а нас схватили и избили до полусмерти. Люди, чьих лиц не было видно из-за бьющего в глаза света, непрерывно орали нам что-то на незнакомом языке. Удар прикладом по почкам убедил меня в том, что все это происходит наяву. Наяву.
Камера, в которую меня бросили, тоже существовала наяву. Она была чудовищно загажена, забрызгана кровью. В ней имелись вонючий тюфяк и параша. Больше ничего. Я лег на отсыревший тюфяк и попытался уснуть, ибо знал, что сон — это первое, чего меня здесь лишат.
Неожиданно загорелся свет, яркий настолько, что, прожигая череп, буквально заставлял кипеть мой мозг. Потом раздались громкие звуки — звуки побоев и допроса, начавшегося в соседней камере.
— Оставьте его в покое, ублюдки! Я вам головы поотрываю, мать вашу! — Я принялся стучать в стену кулаками и башмаками, и шум прекратился. Громко захлопнулась дальше по коридору дверь, мимо моей камеры проволокли чье-то тело, все затихло. Я знал, что настанет и мой черед.
Я ждал, ждал целыми часами, целыми днями, без пищи и воды, а стоило мне закрыть глаза, как из стен и потолка раздавался звук, похожий на тот, что издает застрявший на пустой волне, но включенный на полную громкость приемник. Я лежал, зажав уши руками.
Отстаньте, ублюдки, отстаньте, отстаньте!
Вы ждете, что я сломаюсь? Как бы не так! Ведь, если я не выдержу, пойдет прахом моя армейская карьера, окажутся напрасными муки многомесячной подготовки. Поэтому я громко пел самому себе песенки. Я царапал ногтями рисунки на стенах камеры, мокрых и заплесневелых, и выцарапал там свою фамилию в виде анаграммы: Е. БРУС. Я играл в уме в разные игры, придумывал ключи к решению кроссвордов и короткие лингвистические шутки.
Выживание я превратил в игру. Мне приходилось постоянно напоминать себе о том, что, в каком бы мрачном свете ни рисовалось мне будущее, все это только игра.
И еще я думал о Риве, который меня об этом предупреждал. Для нас действительно придумали нечто грандиознее. Рив был, пожалуй, единственным человеком в подразделении, которого я мог считать своим другом. Я спрашивал себя, не его ли тело проволокли по полу за дверью моей камеры. Я за него молился.