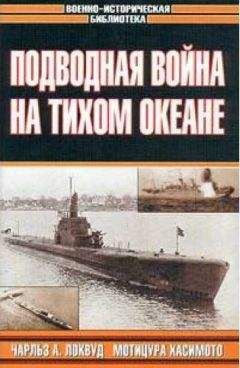Денхем Уайт был одет в серый костюм-«тройку», при одном взгляде на который становилось ясно: перед вами преуспевающий адвокат. Джон знал, что Денхем одевался у Хэма Стоктона, лучшего портного в городе, сшившего ему целый набор костюмов, сорочек и галстуков различных оттенков голубого и серого цветов, которые великолепно сочетались друг с другом. Денхем мог взять любой костюм, любую рубашку и любой галстук, не сомневаясь, что они составят прекрасный ансамбль. Он мог проделывать это с закрытыми глазами. И, наверное, проделывал…
Денхем уже приступил к еде.
— Ну? — спросил он с набитым ртом.
— Что «ну»?
Денхем жестом подозвал официанта и заказал два мартини.
— Ты берешься?
— А, так ты знал, чего хочет Питс? И втравил меня в эту авантюру?
— У меня было только предчувствие. Он предложил тебе шестьдесят тысяч?
— Откуда ты знаешь?
— Ты ведь столько огреб за книгу?
— Ты сукин сын! Если ты знал, что он хочет предложить мне столько, сколько я получил за книгу, то почему не предупредил меня? Я бы сказал, что мне за нее дали сто!
Денхем развел руками.
— Джон, он мой клиент и платит мне полторы сотни в час за соблюдение его интересов.
— Я тоже твой клиент.
— Да, но ты родственник, и ты мне не платишь. В любом случае ты зарабатываешь шестьдесят тысяч за три месяца. Если все будет в порядке, я, возможно, порекомендую ему заплатить наличными. У него большой оборот наличности.
— Выходит, мой адвокат советует мне уклоняться от уплаты налогов?
— Этого я не советовал. Я лишь решил, что наличные будут тебе… удобнее.
Официант принес меню.
— Почему ты так добр ко мне, Денхем? — поинтересовался Хауэлл. — Ведь я не твой любимый зять.
— Да, конечно, ты мой единственный зять… Ладно, Джон, ты же знаешь, я всегда любил тебя. И меня печалит, что ты ломаешь свою жизнь. Ты так блистательно начинал!
— Ломаю свою жизнь? Я делаю, что мне нравится, приятель. Многие из твоих знакомых могут этим похвастаться?
— Почти никто, но ты заставляешь страдать мою сестру, и я не хочу этого терпеть, особенно, если могу помочь. — Денхем стал серьезен.
— И ты думаешь, что если я заработаю несколько баксов, мои домашние дела уладятся, так?
Денхем отвел глаза.
— Если ты будешь зарабатывать эти баксы в другом месте, вы сможете спокойно обдумать создавшееся положение, — промямлил он, явно испытывая неловкость.
Хауэлл удивленно посмотрел на собеседника.
— В другом месте?
— Пожалуй, в своем гараже ты много не наработаешь. Тебе нужно спокойное место, где-нибудь подальше, чтобы никто не отвлекал тебя от дела.
Подали ленч.
Хауэлл проглотил устрицу.
— Похоже, у тебя есть в запасе такое местечко.
Денхем выудил из жилетного кармана ключ и подтолкнул его по столу к Хауэллу.
— Что скажешь о доме в горах? Великолепный вид на озеро, никаких отвлечений. Для писателя — просто рай.
— Я и не знал, что у тебя есть дом в горах…
— Ну, дом — слишком сильно сказано, скорее, домишко. — Денхем занялся устрицами и с отсутствующим видом добавил. — Домик на озере Сазерленд. Ты слышал о таком озере?
— Нет.
— Это самое красивое место в горах северной Джорджии. Местная электрическая компания построила там после второй мировой войны плотину. Они не продали ни одного участка на берегу. Их сдают в аренду друзьям или нужным людям, дешево и на долгие сроки. Всякое отребье не подпускают и близко. Я получил свой участок, когда еще учился в юридическом колледже. Мне его отдали на сто лет за десять долларов в год. Мой старик знал Эрика Сазерленда, построившего плотину и скромно назвавшего озеро и город своим именем.
— Десять баксов в год! Недурно.
— Ты прав. Я выбирался туда по выходным, купил бревна на лесопилке и доставил их в лагерь рыбаков на противоположном берегу. Тогда даже не было дороги вокруг озера, я сколотил плот, какое-то время плавал на нем, а потом разобрал. Я построил домишко, сперва там была только одна комната, но потом появились еще две. В домике есть электричество, водопровод, камин… иногда работает телефон. Есть маленькая моторка с большим мотором. Чертовски романтично.
— Судя по рассказу, чертовски примитивно, — Хауэлл оглядел наполненный зал. — Я подумаю.
— Надеюсь, ты не только подумаешь, парень. Тебе нужно переменить обстановку.
У Хауэлла мелькнула мысль, что Денхем Уайт ловко нажимает на нужные кнопки. Действительно, переменить обстановку не помешало бы… Выходя из здания, Хауэлл остановился у телефона-автомата, позвонил Лартону Питсу и согласился быть его «автобиографом». Какое забавное словцо!!..
— Чудесно! Чудесно, — ответил Питс. Хауэлл понял, что Питс улыбается. — Я понимаю, тебе нужен аванс, ведь предстоят расходы. И вот что я сделаю. Мне принадлежит часть компании, производящей новые компьютеры для редакторов и писателей. Я пришлю тебе один. Потом расскажешь, понравился ли он тебе.
Хауэлл повесил трубку и прижался лбом к холодному стеклу кабинки. Мир неожиданно изменился, и Хауэлл не был уверен, что это ему по душе.
Хауэлл подумал, что ему было бы полегче, будь у Элизабет плохой характер. Он смотрел на нее поверх стола, накрытого к завтраку, и, как всегда, любовался ее задорной, пышущей здоровьем, типично американской красотой. Элизабет была из тех хорошо воспитанных молодых дам, которые так привлекательно смотрятся в одежде для игры в теннис и так активно участвуют в десятке разных комитетов. Хауэллу было бы легче, если бы достоинства Элизабет этим исчерпывались. Но начав работу в подвале ювелирной мастерской, она создала свою фирму, в которой было шестьдесят сотрудников, загребала несколько миллионов долларов в год и обеспечивала Хауэллу жизнь на таком уровне, какого он никогда не достигал даже в лучшие времена, работая в солидной газете и выпустив книгу. Дом был большой и удобный, с теннисным кортом и бассейном. В гараже стояли «Мерседес», «Порше» и еще большой фургон, на котором ездила по магазинам кухарка.
Хауэлл чувствовал себя безработным. Правда, он входил в руководство компании Элизабет и занимался связями с общественностью. Он даже старался выполнять проклятую работу, но все равно не мог соответствовать этому кругу, и тем паче, своей супруге. Она постоянно советовалась с ним по деловым вопросам, интересовалась его мнением, часто даже следовала его рекомендациям, но Хауэлл знал, что если бы они с Элизабет не встретились, она справилась бы с работой и без него.
Хауэлл однажды задумался над тем, какое время в его жизни было самым счастливым. И понял, что это было еще до Пулитцеровской премии, когда он не отрывался от привычной почвы: выслеживал куклусклановцев в Миссисипи, мотался за кандидатами в президенты по собраниям, обедал на открытом воздухе или в прокуренных банкетных залах, где подавали цыплят, сделанных словно из резины. Он тогда жил то во взятых напрокат машинах, то в пятизвездочных отелях, и если не было более интересных занятий, спал с девицами из избирательных комиссий и молодыми журналистками… Он выводил на чистую воду политиков-взяточников — для этой цели Хауэлл использовал записанные на расстоянии разговоры и корешки чековых книжек — летал в грозу на маленьких самолетиках, гоняясь за жареными фактами, которые остывали прежде, чем самолет успевал сесть. Он мучил первых губернаторов неприятными вопросами об их родственных и политических связях и даже помог чернокожему шефу полиции маленького городка в Джорджии разоблачить покрываемого политиками маньяка, который закапывал убитых подростков на своем дворе на протяжении сорока лет… Хотя… если разобраться, именно эта история и доконала его как журналиста. Она принесла Пулитцеровскую премию, книгу и самое ужасное — предложение вести ежедневную колонку в газете.
В какой-то момент всего этого еще можно было избежать. И Хауэлл точно знал в какой. Это воспоминание неизменно преследовало его, стоило ему, как сейчас, углубиться в прошлое… Совпали два события. Хауэлл тогда руководил бюро «Нью-Йорк Таймс» в Атланте. Раздался тот памятный телефонный звонок… Главный редактор произнес слово «Вьетнам» таким тоном, словно дарил ценнейший подарок. У журналистов, как у профессиональных военных, есть одна заветная мечта: побывать на войне. Война во Вьетнаме явно шла к концу, но впереди маячила возможность заслужить небывалую для журналиста славу: возможность описать хаос поражения. Американские репортеры дрались за место военного корреспондента еще с середины шестидесятых, но Хауэлла среди них не было. Если заходила речь о войне, он отвечал, что дома случаются более важные события. А теперь ему подносят подарок на блюдечке!
Хауэлл не хотел ехать. Он привык к комфортабельной жизни и не желал ютиться в палатке, не хотел проводить вечера в сайгонских барах, где на тебя вешаются дешевые шлюхи, не хотел замараться. Но было еще одно: Хауэлл знал, что где-то в глубине души, под амбициями и агрессивностью, таился страх. Он слишком часто демонстрировал свою храбрость и делал глупости, он чувствовал, что привык к везенью. Хауэлл боялся, что его ранят. А еще больше боялся, что убьют. Он не хотел умирать в грязи, нафаршированный осколками гранаты, не хотел вопить, пока горящий вертолет падает на землю, не хотел дрожать от страха, но знал, что такое будет, когда начнется стрельба. Хауэлл не желал ехать и не мог отказаться. Он понимал, что это будет конец, ибо он никогда уже не оправится от такого удара.