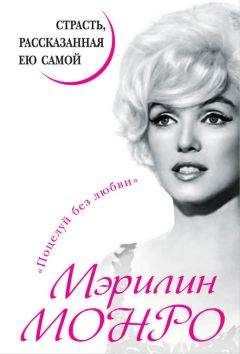Вся ее жизнь сводилась к нескольким мятым денежным бумажкам да к тюфяку, на котором она спала (мать постоянно обитала на кухне в постоянной готовности кормить гостей — когда бы они ни пришли). Впрочем, надо отдать должное и французу — будучи весьма влиятельным человеком в то смутное время, он все-таки опекал ее и время от времени что-то подбрасывал.
И тем не менее относился он к матери с той долей презрения, которая уместна разве что по отношению к завшивевшей дворняжке. Сам француз явно не понимал, насколько унижает ее и втаптывает в грязь; его тешило сознание того, что он спас эту вьетнамку от ловли клиентов на задворках парков и в конечном счете от туберкулеза или наркотического отравления. Взамен он сделал ее проституткой в своем доме и предоставил в услужение всем своим гостям, какой бы национальности они ни были.
До Дук часто думал о жизни. Какая жизнь? По первому требованию ложиться под обожравшихся собутыльников француза? Этот француз даже гордился своим гостеприимством, тем, что благодаря дружбе с прессой его еще не выперли из Вьетнама.
Как бы то ни было, этот француз являлся ангелом-хранителем его матери — без него она уже бы давно очутилась на улице и умерла где-нибудь под забором. А что стало бы с До Дуком? Его бы просто не было. Всем своим существованием — жалким и мерзким, — вне всякого сомнения, он был обязан этому человеку. Обязан всем, что для До Дука имело хоть малейшее значение. И все же...
Оказалось, что у француза была иная, чем у других людей, аура. Она высвечивалась резко голубой, с каким-то металлическим оттенком. Позже, основываясь на своем богатом опыте, До Дук пришел к пониманию, что подобный цвет свидетельствует о близкой и неминуемой смерти.
— Групповое изнасилование, — выдохнул До Дук, приставляя острие кухонного ножа к загорелой груди хозяина.
Вечеринка, подобно слишком высоко взошедшему солнцу, быстро склонилась к закату. Часть гостей разошлись, остальные спали, накачавшись наркотиками.
— Они рассказали мне все... в том числе и о том, как вы подсчитывали, скольких мужчин она сможет принять перед тем, как отрубится.
Нож мелькнул в воздухе, подобно баклану в солнечном сиянии, и лезвие с каким-то жутким звуком где-то исчезло.
— Именно это вы сделали с моей матерью.
Кровь стекала по рукам француза, напоминая своим цветом вине из его заветной бутылки.
— И как я родился. Похабный анекдот паскудной вечеринки. — Влага на ладонях До Дука пылала жаром. — Ты способен осознать унизительное положение моей матери? Она ведь стесняется рассказать мне о моем рождении.
Тонкая хлопчатобумажная рубашка До Дука набухла от крови, брызнувшей из раны француза.
Расширившиеся и остекленевшие глаза француза покрывались мутной пеленой по мере того, как до него доходил смысл происходящего. Жизнь вытекала из него вместе с кровью из ран, которые не переставал наносить ему До Дук.
— Каждый ее взгляд — это напоминание мне о том, во что ты ее превратил.
Рот француза безвольно открылся.
— Благодаря тебе она познала всю подлость и горечь этой жизни.
До Дук отдернул от него свою окровавленную руку, оставив нож в его теле; ладонь судорожно то сжималась, то вновь разжималась, отплясывая какой-то бешеный рок-н-ролл.
— Твое слово было для нее законом; в большей мере, чем слово Божье или заветы Будды. Они ведь неодушевленны, а ты всегда был здесь — живая плоть и кровь. Властитель душ.
Француз повалился на колени и сквозь хлынувшую горлом кровь прошептал:
— Я не сделал ничего, что ты... я спас ее.
Не доверяя самому себе и не пытаясь лицемерить, До Дук с ужасом ощутил правду, содержащуюся в его словах. В тот момент эта истина вызвала в нем еще большую вспышку гнева, однако позже, когда умолкли ауры и он бился в тисках эмоций, присущих взрослому человеку, к которым был абсолютно не подготовлен, последняя фраза его бывшего хозяина постоянно преследовала его и не давала покоя, ибо в душе До Дук осознавал, что француз был абсолютно искренен.
— Ты спас ее для этого — убогости и вырождения. Она не осмеливалась поднять на тебя руку, даже плохо о тебе подумать. Это ее путь. Но не мой. Я совсем другой... другой... другой...
«Упокой, Всевышний, душу раба твоего...»
На последнем слове псалма «мир» он осекся, не в силах или не желая его произносить, — все эти возвышенные фразы никак не могли примирить его с роскошью одних и постоянной юдолью печали других.
Задыхаясь от свертывающейся крови и желчи, чувствуя неизбежно приближающуюся смерть, заплетающимся языком француз прошептал:
— Нет... в мире дурных намерений, — постоянные спазмы тошноты мешали ему говорить. — Есть только дурные... деяния.
Эта сентенция, видимо, отняла у него последние силы, поскольку затем глаза закатились, а нога судорожно задергалась. Спустя мгновение ослаб и разжался сфинктер, оставив «эпитафию», которую До Дук посчитал весьма уместной.
Тем не менее слова француза запали ему в душу.
Опасаясь за свою жизнь, До Дук был вынужден бежать из Сайгона. Он знал, каким влиянием обладал француз, и прекрасно отдавал себе отчет, что, если не ляжет на дно, в живых себя лучше не числить.
Более всего он желал воевать, оказаться в кабине реактивного самолета — До Дук уже давно представлял себя пилотом истребителя, хотя и видел эти ревущие машины лишь издали.
Он ненавидел коммунистов точно так же, как ненавидел французов и американцев, впрочем, коммунистов он ненавидел даже в большей мере, ибо те, будучи частью своего народа, повернули против него оружие. Какие бредовые идеи заставляли их творить геноцид? поганить уникальную историю нации? — эти вопросы были вне его понимания. Единственное, в чем он был уверен наверняка, так это в том, что эти люди являют собой скопище бешеных скотов, которых необходимо уничтожать со всей беспощадностью.
Однако вступать в ряды ЮАВ — Армии Южного Вьетнама — было опасно, поскольку полиция легко смогла бы напасть на его след, просмотрев списки недавних новобранцев. Поэтому До Дук предпочел уйти в горы и навсегда изменить свою жизнь.
В те времена горы были не самым подходящим местом для двенадцатилетнего мальчика. Там формировались отряды из различного отребья горных племен; там же сосредоточивались банды вьетконговцев — кровь лилась рекой в любое время дня и ночи. Тем не менее в горах До Дук чувствовал себя в меньшей опасности, чем за оштукатуренной стеной компаунда, принадлежащего французу.
Но в горах обитали и другие люди, которых война и коммунисты вынудили покинуть родные места в высокогорных районах Северного Вьетнама и перебраться на юг. Это были нунги, дикие, почти первобытные люди китайского происхождения, сохранившие свои туземные обычаи, примитивное мировосприятие и собственные старинные способы самозащиты.
Даже свирепые вьетконговцы побаивались нунги и старались держаться от них подальше, обходя стороной возможные места их проживания. Ходили страшные слухи, возможно и преувеличенные, что нунги обладают магическими способностями, что, облачившись в содранную кожу своих врагов и склонившись над очагом, они поедают их жареное мясо.
До Дук тоже слышал об этом, однако все эти страшные истории не столько испугали его, сколько возбудили любопытство. Его всегда интересовали люди, способные нагнать страх на коммунистов. За время пребывания в доме француза он извлек всего один стоящий урок — истину, которую необходимо постоянно помнить, живя в Азии: деньги — это не самое главное в жизни, власть и сила — вот чего необходимо добиваться. Нунги обладали этой силой, До Дук же был ее лишен. Именно поэтому он решил найти этих людей.
Чего я в конечном счете могу лишиться, рассуждал До Дук, только жизни, которая в данный момент не стоит и ломаного гроша; в случае удачи смогу обрести неограниченные возможности.
Это было наилучшим решением, которое он когда-либо принимал, и — наихудшим. Прежний До Дук, вне зависимости от того, кем он был и кем бы мог стать, растворялся среди нунги, и родился совершенно новый До Дук. Воскрешение, должно быть, слишком слабое определение, но после периода ассимиляции у него зародилось пристрастие к уединению, и он, забравшись высоко в горы и глядя на сгущающиеся сапфирового оттенка сумерки, сам того не ведая, навевал про себя разученные у француза псалмы.
Даже после того как старый нунги Ао, обследовав его, сообщил, что До Дук одно время был пристрастен к наркотикам, он не прекратил своих ежевечерних молитвенных песнопении. И даже догадавшись, что ему подмешивал француз в те сласти, пахнувшие медом, корицей, чесноком и луком, и размышляя над тем, до какой низости дошел тот в своем стремлении обеспечить преданность ему своих слуг, До Дук все равно продолжал мурлыкать засевшие в голове строки.
«Упокой, Всевышний, душу раба твоего, и пусть почиет она в мире согласно твоему слову».