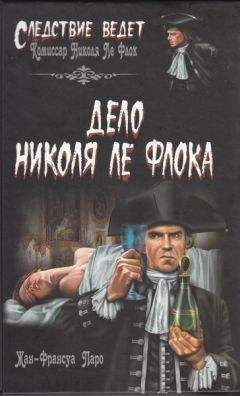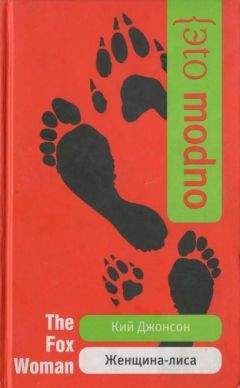Сначала больше ничего не было, это был мирный сон, но в следующий миг Дэвид понял, что никакой это не сон, а его воспоминания. Он узнал этот пляж. На побережье рядом с Энсенадой — он был там под конец двухнедельного путешествия автостопом по Луизиане, по Техасу, а потом по загорелой Мексике. Много-много лет назад. Путешествовал с подругой. Эта экспедиция должна была продемонстрировать, «какие мы уже взрослые», а закончилась провалом в кромешную тьму.
Да, та поездка.
Уорнер также понял, что от воспоминаний ему неуютно. Кулаки заныли. Его охватило чувство вины и головокружительное предчувствие «что же будет дальше?». Главным образом угнетала зудящая мысль, что он сделал нечто такое, чего делать нельзя, но в то же время она сопровождалась твердой уверенностью, что грядущее событие вызревало где-то внутри его и избегнуть его невозможно.
У некоторых людей гнев просто испаряется. Выплескивается из какого-то источника, а затем потихоньку уносится по трубам и стокам в океан. А у других он снова впитывается в почву, возвращается, находя дорогу к истоку, вскипает и булькает под землей, дожидаясь момента, чтобы выплеснуться снова, на этот раз энергичнее, чем прежде.
Такой гнев никогда ни за что не исчезает и рано или поздно на кого-то выплескивается. Именно так все и происходит.
Испытывал ли он облегчение тогда, когда это наконец-то случалось? Больше чем облегчение — возбуждение, мрачное и жуткое, доводящее до исступления волнение, ощущение, будто приоткрылась дверь, которую никогда уже не закрыть: только не теперь, когда ты наконец увидел, что за ней скрывается, и понял, что тебе всегда будет мало обыденной жизни.
Выпуклость на джинсах явственно говорила «да».
Дэвид снова уронил голову на мягкий песок из времен тридцатилетней давности. Но ведь на этот самый песок он ронял голову каждую ночь с того раза. И неважно, лежал ли он в тот момент на подушке и чья это была подушка, дорогая ли была на ней наволочка… На самом деле он каждый раз опускал голову на тот песок.
Когда Уорнер проснулся — на этот раз по-настоящему, — то понял, что на нем не джинсы, а спортивные штаны в пятнах крови, а еще вспомнил, как среди ночи заходил в океан, пытаясь хоть немного отмыться. Он сидел в воде, пока не замерз как следует. Тогда он, пошатываясь, вылез на берег и отправился спать.
Теперь Дэвид сел и увидел перед собой маленького мальчика. Лет пяти-шести, в желтых плавках, с лопаткой на длинном черенке в одной руке и с красным ведерком — в другой. Краски показались ему очень яркими.
Ребенок ничего не сказал, просто смотрел на взрослого, лежавшего на песке. Взгляд его был оценивающим и лишенным каких-либо моральных принципов, сам Уорнер много лет учился скрывать подобный взгляд.
«Да, со мной ты вполне мил, — подумал Уорнер, — но бьюсь об заклад, твои родители знают правду. Могу поспорить, иногда, за закрытыми дверьми, их руки дрожат от сдерживаемой ярости, и причиной тому ты. Шестилетка на тропе войны, которому на все наплевать, который не видит разницы между наградой и наказанием, — объясняет, почему наши тюрьмы набиты битком, а в лесах находят закопанные тела. В наших сердцах живет любовь к разрушению и хаосу, которую не укротить никакому обществу».
— Когда я был в твоем возрасте, — сказал мальчику Уорнер, — я поймал птичку. Я руками сломал ей крылья, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Ребенок заплакал и убежал.
Уорнер поднял руки и потер лицо, пытаясь вернуть ему чувствительность. Кожа двигалась под ладонями, но казалась какой-то обвисшей и высохшей. Где-то тут же, у основания черепа, затаилось головокружение. Просто чудо, что он сумел проделать весь этот путь от недостроенного комплекса до пляжа. Нога как будто омертвела, вряд ли он когда-нибудь сможет наступить на нее. Хотя купанье в океане до какой-то степени помогло избавиться от запаха, оно никак не помогло заглушить вонь от раны. С ногой творится какая-то хрень. Надо, чтобы кто-то его забрал отсюда, и поскорее.
Кроме купания в океане, Уорнер успел сделать несколько звонков из облезлой телефонной будки, которую обнаружил на окраине следующего жилого комплекса у дороги. Он медленно тащился через курорт, как ему казалось, много часов, словно в кино про одинокого зомби, когда вдруг свернул за угол и неожиданно обнаружил у стены телефон, сияющий ярким светом.
В итоге Дэвид сделал два звонка.
Первый остался без ответа. Поскольку у него не было ни часов, ни телефона, он не знал, сколько может быть времени. Ночь, это ясно, глубокая ночь, но он понадеялся на ответ, потому что звонил копу, человеку, который не живет по нормальному расписанию. Что же дальше? Дэвид оказался в ловушке. Нога никуда не годится, с такой ногой сам он далеко не уйдет. Но и оставаться здесь тоже нельзя.
Был еще один номер, по которому можно позвонить, но не хотелось. Действительно не хотелось.
Паника, поднимаясь откуда-то из живота, все усиливалась. Уорнер даже задумался на миг, не позвонить ли ему вместо того Линн. Но он понимал, что эту мысль породило отчаяние. Линн для него просто игрушка, часть долгой и сложной программы по отвлечению внимания, способ доказать самому себе, что он может жить как другие. Дэвид всегда это понимал. В данный момент она ничем ему не поможет, и его удивило, что эта мысль вообще пришла ему в голову.
Он на минуту задумался, держась за стенку одной рукой, а в другой сжимая телефонную трубку, из-за двух сломанных пальцев на левой руке Дэвид никак не мог взять ее толком, хорошо ли он тогда придумал? Может ли он вообще вести нормальную жизнь?
Теперь уже поздно.
Он опоздал на годы.
Опоздал с исправлением.
Поэтому все-таки позвонил по второму номеру.
После пяти гудков трубку сняли. Может, потому, что тот человек живет на Западном побережье и разница во времени составляет три часа. С другой стороны, вполне возможно, что тот вообще никогда не спит. За последние несколько лет Уорнер трижды встречался с этим типом и, хотя считал себя скверным человеком, тут же понял, что с ним ему не тягаться, эта личность словно с другой планеты. Его знакомый всегда был вежлив, временами даже дружелюбен. Но он все равно пугал Уорнера до чертиков — так мог бы напугать пришелец, который выглядит в точности как человек, но при этом является чем-то совершенно иным.
— Кто говорит? — произнес голос.
— Дэвид Уорнер.
— И?
— У меня возникли… серьезные проблемы.
— Это я знаю.
— Вы… откуда? Как вы узнали?
— Зачем ты звонишь, Дэвид?
Уорнер качнулся вперед, упираясь лбом в шершавую каменную стену над телефоном. Он произнес фразу, которую не произносил ни разу за всю жизнь.
— Мне… нужна помощь.
Он изложил ситуацию. Рассказал о своих ранениях. Объяснил, почему не может вернуться домой. Хотя и подозревал, что совершает ошибку, но упомянул о больших суммах, какие вносит ежегодно.
Человек на другом конце провода рассказал ему, что делать. Дал телефонный номер, велел позвонить по нему и сообщить, где именно находится, а потом ждать, не попадаясь никому на глаза.
Уорнер принялся благодарить, но понял, что трубку уже повесили. Он набрал бесплатный номер, который ему назвали, оставил сообщение, сказав, что будет на пляже перед недостроенным жилым комплексом «Серебристые пальмы». Это место показалось ему ничуть не опаснее других. Ни один курортник его не узнает.
Уорнер повесил трубку на крючок и поплелся на пляж.
Он не знал, который теперь час, но, если дети уже гуляют и ищут ракушки, наверное, идет к девяти. Может, даже больше. Дэвид надеялся, что его уже скоро заберут. Он в самом деле чувствовал себя плохо.
— Я видела ее лицо, — произнес голос.
Голос раздался откуда-то сзади, футах в шести-восьми по склону песчаного холма. Он узнал этот голос. Но не повернулся. Нет смысла оборачиваться, чтобы посмотреть на покойника.
— Видела ее лицо каждую ночь, ложась в постель. Я видела, каким оно стало, когда она поняла, насколько ты пьян.
Уорнер уронил голову и ответил, обращаясь к песку между коленями:
— Она была девка, которая шляется по барам. Потаскуха. Ей и раньше доводилось видеть пьяных парней.
— Но не таких, как ты. Ты усадил ее на заднее сиденье машины, а я сидела на переднем, чтобы все выглядело безопасно и безобидно. Ты вывез ее из города, съехал с дороги и остановил машину.
— Заткнись, — потребовал Уорнер.
— А я была просто не в состоянии что-либо сделать. Слишком много выпила, слишком много выкурила косяков… Мать твою, Дэвид, ей было всего семнадцать. И тебе тоже. Откуда мне было знать, что случится такое?
— Я и сам не знал.
— Нет, ты знал, еще как знал. Я всегда чувствовала в тебе какой-то ледок, но… мать твою, Дэвид! Ты помнишь, на что походило ее лицо, когда все закончилось? Во что ты превратил его камнем?