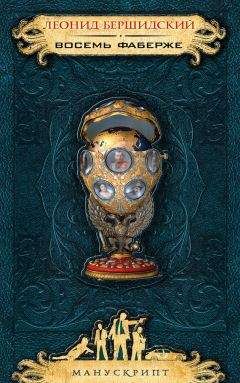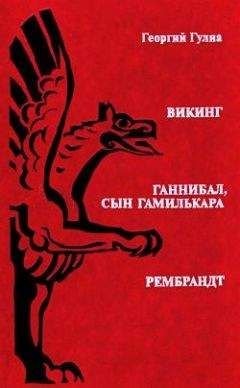– Знаешь, – продолжает Хендрикье, – ведь есть способ не отдавать им все. Я и Титус могли бы создать торговый дом, а ты был бы в нем наемным работником. Все твои картины тогда по закону были бы наши, а ты платил бы кредиторам из своего заработка.
– Какая-то унизительная хитрость, – раздраженно отвечает Рембрандт. – Все знают, что ты моя жена, а Титус мой сын. Над нами станут смеяться, а деньги все равно будут требовать назад.
– Но ведь и переписать дом на Титуса, а потом назваться несостоятельным, – тоже хитрость, которую легко раскусить, – спокойно возражает ему Хендрикье. За годы жизни с ним она убедилась, что понимает деньги лучше него; постепенно и он перестал отмахиваться от ее советов.
В этот раз, однако, Рембрандт не желает слушать.
– Хендрикье, я готов отдать картины, мебель, даже дом, но я не готов пока отдать свое имя. Это у меня никогда не отберут, Хендрикье, и то, что ты предлагаешь, мне совсем не нравится.
– Рембрандт, конечно, ты тот, кто ты есть, и об этом знают все в Амстердаме, да и вообще везде, даже в странах, где мы никогда не бывали. И никто не отберет у тебя твоего имени, тем более мы с Титусом. Ты ведь сам не хотел сдаваться, я просто пытаюсь придумать, как этого избежать.
– Ты разговариваешь со мной, как с неразумным ребенком… – Он размыкает ее объятия, отходит на три шага назад и, прищурившись, оглядывает «Бурю». – Знаешь, очень хорошо, что я не дописал эту картину двадцать лет назад. Я только теперь понимаю, какая она должна быть. Я никогда тебе не рассказывал ее историю?
– Нет. Расскажи, – просит Хендрикье. Она рада, что Рембрандт сменил тему: еще немного, и получилось бы, что они ссорятся из-за денег, а этого она всегда старалась избежать, ведь такие ссоры разрушительнее самой жалкой нищеты.
– Когда я начал ее писать, у меня был учеником Говерт Флинк, теперь уже знаменитый и почтенный Говерт Флинк, – рассказывая, Рембрандт не сводит глаз с холста. Надо будет переписать фигуру Иисуса: поярче осветить ее, на нее на первую должен падать взгляд. – И вот он задумал посостязаться со мной, снял комнату и в ней украдкой писал картину на тот же сюжет. В день, когда он принес свою «Бурю» в мастерскую, чтобы показать мне, я пришел с новым важным заказчиком, итальянцем. Тот увидел работу Флинка и захотел купить ее. Мне ничего не оставалось, как поставить на ней свою подпись и уступить ему. Вот это был обман похуже, чем то, что я хочу сделать с домом. И, знаешь, обман этот особенно гнусен тем, что Флинк написал «Бурю» лучше, чем получалось у меня. Я тебе первой говорю это, Хендрикье, никому другому я бы и не помыслил признаться. Но сейчас признаю€сь, потому что теперь у меня получается гораздо лучше, чем тогда у Флинка. Я вижу иногда его картины в домах моих кредиторов, Хендрикье, и мне очевидно, что он отлично усвоил все, чему я научил его. Но он перестал учиться, когда покинул мою мастерскую. А я не перестал. Я и у него научился кое-чему и его «Бурю» до сих пор помню в деталях, хотя вот уж больше двадцати лет как она в Италии. Понимаешь, пока я не взялся снова за мою «Бурю», я чувствовал себя в каком-то смысле подмастерьем Флинка. А он, он перестал быть подмастерьем, как только вступил в гильдию и стал сам принимать заказы.
Хендрикье не совсем понимает, о чем этот путаный монолог. О чем-то очень мужском, думает она: о соперничестве двух мальчиков, научившихся лучше всех прочих класть краску на холст. Но пусть Рембрандт думает о таких материях, чем о предстоящем банкротстве, с обычной рассудительностью решает она. Так он не отчаивается и продолжает работать. Рано или поздно он увидит, чем хорош ее план, и представит его как свой, так что ей останется только признать его мудрость и согласиться.
– Флинк был твоим учеником, – говорит она вслух. – Ты имел право на его работы, потому что научил его всему, что он умеет, а еще давал ему кров и кормил. И сейчас он только твое отражение. Не понимаю, о каком обмане ты говоришь.
– Я у тебя получаюсь всегда прав, – вдруг улыбается Рембрандт. – Если бы в целом мире остались только мы вдвоем – ну и Титус, и Нелтье, – я мог бы и возгордиться, наслушавшись тебя.
Поддерживая эту искорку веселья, Хендрикье смеется и обвивает руками его шею.
– В моем мире и нет больше никого – только ты, Нелтье и Титус, – шепчет она ему на ухо.
На этот раз он не отталкивает ее.
Бостон, 2012
Штарк волновался, что в Америке его ждут и задержат уже в аэропорту. Но офицер иммиграционной службы без особого интереса рассматривает многократную визу в его служебном паспорте, спрашивает о цели визита – командировка, отвечает Иван, – и штампует соседнюю страницу. Похоже, они с Софьей напрасно предпринимали такие сложные меры предосторожности – можно было спокойно лететь в Москву обычным путем. Но ведь, когда он звонил Федяеву в Бостоне, кто-то слушал их разговор? Почему же те, кто слушал, не заинтересовались Штарком? Или дела Федяева идут так хорошо, что всякий интерес к его возможному сообщнику у американских федералов пропал?
Из-за разницы во времени выходит, что они прилетели в Бостон всего через полтора часа после того, как вылетели из Амстердама. А еще будто и не было шести часов. Для Штарка – точно: на этот раз он не смотрел никаких снов наяву, а просто спал, решив не расспрашивать Вирсингу о «Буре» и не слушать треп Молинари, который расхвастался профессору о своих предыдущих визитах в Европу – всякий раз по делу, в поисках какого-то украденного шедевра. Голландец проявил живейший интерес и сразу поразил Молинари осведомленностью об обстоятельствах первой же истории, которую сыщик стал ему рассказывать. Эрудиция профессора немного пугала Ивана. «Почему он так много знает обо всем, что связано с нами и с целью этой поездки?» – тревожился Штарк. Но, не будучи склонен к теориям заговора, быстро отогнал эти мысли. Ему приходилось встречать людей, чьи головы были набиты лишней информацией так, что нужная в них уже не помещалась. Один из них участвовал в передаче «Своя игра» и чуть ли не зарабатывал этим на жизнь. Добывать деньги иначе он был, кажется, не способен. А кто такой искусствовед, если не профессиональный эрудит, не желающий заниматься ничем практическим?
В Бостоне Штарк и Вирсинга направляются в Кембридж-Хаус-Инн, хорошо известный профессору-всезнайке, не раз читавшему лекции в Гарварде, а Молинари – снова к маме.
– На этот раз, Штарк, попробуй только не прийти, – грозит он Ивану кулаком.
– Я прослежу, чтобы он больше не обижал вашу матушку, Том, – успокаивает итальянца Вирсинга.
Выспавшемуся в самолете Ивану совершенно не хочется в кровать, но он знает, что лучше себя заставить. Ведь в прошлый раз сонливость испортила ему романтическую встречу с Софьей – в его внутренней видеотеке нет «фильма» про их первую ночь за двадцать четыре года. Получив ключ от номера, он говорит Вирсинге:
– Арьян, вы же расскажете мне про «Бурю» завтра утром?
– Нет, Иван, – качает головой голландец. – Я обязательно вам расскажу, но позже, когда мы поймем, подлинные ли картины собираются вернуть в музей. Вы поймете, в чем дело, – обещаю, что все покажется вам абсолютно логичным.
– Хорошо, я не буду вас торопить. Тогда скажите, вы знаете кого-нибудь в Музее Гарднер?
– К сожалению, нет. Но у меня есть знакомые в Гарварде, которые наверняка знают директора музея Джину Бартлетт. Пока вы спали в самолете, я написал пару писем; возможно, уже пришли и ответы. Завтра утром мы в любом случае попробуем договориться о встрече с госпожой Бартлетт.
– Давайте немного подождем с этим – надо, чтобы Том по своим каналам узнал, на какой стадии переговоры о картинах. Вы не хотите сперва встретиться с реставратором, Винсом Ди Стефано?
– Пожалуй, нет, – задумчиво произносит Вирсинга. – Зачем его тревожить? Особенно если он, как вы изящно выразились, «мотивирован».
– Хорошо. Тогда встретимся за завтраком?
– Да, часов в девять. Я хочу как следует выспаться, может, даже приму снотворное. Ненавижу джет-лэг.
Иван ворочается в постели, обдумывая последовательность действий. Вирсинга прав: в музее лучше сразу разговаривать с директором, предварительно выяснив, что она уже знает о готовящемся возвращении картин. И лучше, если с ней свяжется голландский профессор через своих гарвардских друзей, – так она будет к ним с самого начала расположена. Нужно еще навестить оба дома – в Бруклайне и в Северном Бостоне, желательно с Молинари. До или после похода в музей? Наверное, безразлично: скорее всего, никаких доказательств, что картины фальшивые, они в домах не найдут. И как искать Савина? Об этом лучше посоветоваться с Томом. Если, конечно, Савин еще не уехал из города. Ведь если он – конечный получатель денег, которые исчезли из багажника «Тойоты», он вполне мог испариться, и искать его теперь можно по всему миру, хоть бы и меж Карибских островов.