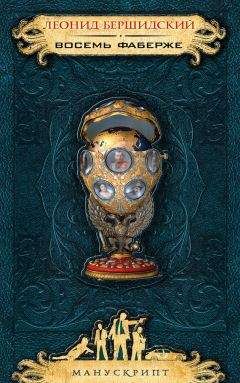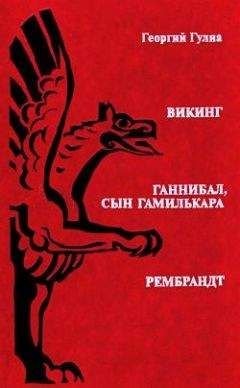Уже почти девять лет они вместе. Хендрикье Стоффельс многим пожертвовала для него: последние три года ей даже запрещено ходить к причастию. В отличие от Рембрандта, она, дочь сержанта из гарнизонного городка, набожна. Когда Совет реформатской церкви начал изводить ее вызовами – «Хендрикье Стоффельс, живущей на Бреестраат у художника Рембрандта, надлежит явиться…», – она поначалу так испугалась, что Рембрандту стало не по себе. Совет требовал от Хендрикье признания в блуде с живописцем, у которого та числилась служанкой. «Не ходи, – советовал он ей, – ну что они могут с тобой сделать?» Хендрикье ослушалась трижды, и только под угрозой отлучения все-таки предстала перед Советом. На шестом месяце беременности отпираться было бесполезно, ее публично объявили блудницей и запретили причащаться.
Что ж, Хендрикье приняла это, по обыкновению, послушно. Она понимает, почему Рембрандт не женится на ней: если он это сделает, то потеряет право на свою долю наследства Саскии ван Рейн, а без этой доли их ждет совершенная нищета.
Рембрандт уверен: бога прогневил скорее церковный Совет, чем его невенчанная жена. Их с Хендрикье дочери Корнелии уже полтора года. Девочка совершенно здорова и явно не умрет в младенчестве, как две другие бедняжки Нелтье, смерть которых так подкосила когда-то Саскию. Да, он и в третий раз назвал дочь в честь своей матери – и на суеверия ему по-прежнему наплевать, как и на весь церковный Совет совокупно и по отдельности. И да, ему повезло с Хендрикье – так, как он и не мечтал. Статная, волоокая, с сильными руками и высокой грудью, она совсем другая, чем нежная маленькая Саския, о которой Рембрандту всегда нужно было – и хотелось – заботиться.
Умирая, Саске сама попросила его найти женщину, которая будет ему опорой. Правда, она думала, что это будет Гертье, и Рембрандт не то что доверился ее суждению – просто пустил все на самотек. Сто раз уже он проклинал себя за эту слабость, за то, что дарил Гертье кольца и серьги Саскии, за то, что пытался писать ее – конечно, из этого мало что вышло. Но что теперь толку жалеть о том, чего не исправишь. Надо придумывать, что делать дальше, у кого занять еще денег, чтобы как-то выкрутиться, – или стоит прекратить уже эти мучения и объявить себя несостоятельным.
Цессио бонорум, уступка всей собственности кредиторам в обмен на их согласие больше не пытаться взыскать долги – не такая уж страшная процедура, думает Рембрандт. Говорят, в прежние времена в его родном Лейдене человек, объявивший себя несостоятельным, должен был несколько дней подряд являться в полдень к ратуше в одном нижнем белье и полчаса стоять так, снося насмешки зевак. Теперь такого не бывает: о несостоятельности можно даже объявить не лично, а через представителя.
К несостоятельным должникам в этой республике купцов относятся скорее как к жертвам, чем как к преступникам, и обращаются с ними бережно. Ведь и основательным торговцам приходится иной раз проходить через цессио, если, скажем, их суда с товаром гибнут в штормовых волнах.
Сравнение с волнами не случайно приходит на ум Рембрандту: он как раз заканчивает – не прошло и двадцати четырех лет – свою «Бурю на море Галилейском». Почти все написанное тогда, в счастливейший год его жизни, год помолвки с Саскией, он соскреб с холста: сейчас ему даже странно видеть, каким он был тогда романтиком-неумехой. Теперь нос лодки обращен к зрителю – так гораздо сильнее ощущение, что она тонет. В отчаянных попытках спастись рыбаки, кажется, вот-вот скатятся с палубы прямо в преисподнюю. Но этого, конечно, не допустит их духовный наставник, только что разбуженный на корме: его лицо спокойно и светло.
Рембрандт спиной чувствует, что в комнату вошла Хендрикье. И в самом деле, она неслышно подходит к нему, обнимает сзади, кладет голову ему на плечо.
– Решил закончить эту старую картину? – спрашивает она. – Я видела ее в углу; кажется, она стояла там, еще когда меня здесь не было.
– Да, милая. Я привожу дела в порядок.
– Ты ведь готовишься все отдать им, правда?
Вот и не нужно ничего объяснять. Хендрикье никогда всерьез не училась и, хоть грамотна, не читает книг; но она так же умна, как Саския.
– Да, Хендрикье, я думаю объявить цессио бонорум. Видит бог, я стараюсь расплатиться с долгами, но они только растут, сколько бы я ни работал. Я пытался купить нам другой дом, поменьше; продавец даже готов был взять часть платы картинами, а часть – деньгами, но не сразу. Но в последний момент он отказался. Я еще не пошел в Палату по несостоятельности только потому, что не знаю, где мы будем жить, когда я все отдам.
– Мы ведь до сих пор не расплатились за него?
– Нет. Но теперь, знаешь, это даже к лучшему. Если бы я сразу выплатил за него всю сумму из денег Саскии, как мне тогда советовали, эти деньги сейчас пропали бы – дом ведь все равно отберут.
– Может быть, тебе переписать дом на Титуса?
Эта простая мысль не приходила Рембрандту в голову. Он неуверенно возражает:
– Но это ведь будет нечестно? Так нельзя делать – Палата требует, чтобы должник по совести передал все имущество кредиторам.
– Я слышала про одного торговца шелком, который поступил так, когда пираты захватили корабль с его товаром. И ему это сошло с рук: все ему сочувствовали, ругали проклятых английских разбойников…
– Пожалуй, стоит попробовать, – размышляет вслух Рембрандт. – В конце концов, чем мы сейчас рискуем? В любом случае я попытаюсь сейчас продать кое-что. Долги раздавать уже не имеет смысла, так что мы отложим денег, и, если дом все-таки заберут, мы по крайней мере сможем снять какое-то жилье.
Наверняка кредиторы узнают и не дадут этого сделать, думает Хендрикье: ее Рембрандт ничего не умеет скрывать. И деньги не любят его: всякий раз, когда он придумывал какой-нибудь хитрый купеческий план и возбужденно объяснял его ей, через несколько месяцев все кончалось новыми долгами, новыми обещаниями жить по средствам и новыми залогами на все имущество. В прошлом году Рембрандт надумал скупать свои гравюры, чтобы набить на них цену. Конечно, коллекционеры в Амстердаме и Антверпене поняли, что происходит, взвинтили цены сами, напродавали ему гравюр, а теперь как ни в чем не бывало торгуют друг с другом по прежним ценам. Но Хендрикье, конечно, не станет напоминать ему об этом: пусть делает, как считает нужным. Он мужчина, и он великий живописец – это признают все, даже самые нетерпеливые кредиторы. Слово «великий» она слышала только о нем, о более успешных Говерте Флинке и Фердинанде Боле так не говорят. Впрочем, может быть, друзья и знакомые произносят это слово просто в утешение мастеру, зная о его бедственном положении. Но даже если так, она принимает их слова за чистую монету, потому что хочет, чтобы они были правдой.
– Я продам «Бурю» Аврааму Францену, – продолжает Рембрандт. – С его братом я как раз только что расплатился. К тому же Францен мой друг, он не выдаст меня.
– Аптекарю Францену? Он добрый человек, – одобряет план мужа Хендрикье. – И он очень хорошо отзывается о тебе.
– Продам ему «Бурю» и попрошу его сохранить мои офортные доски, – решает Рембрандт. – Не отдам их, они нужны мне для работы.
Пожалуй, единственный известный Хендрикье успешный «купеческий» план мужа связан как раз с этими досками: слегка меняя их – тут пририсовывая персонажу корону, там более подробно прорабатывая складки платья, – Рембрандт каждый оттиск продает как новое произведение: коллекционерам нравится искать отличия и собирать все вариации сюжета, так уж они устроены.
– Конечно, то, что нужно человеку, чтобы снова встать на ноги, у него никогда не отберут, – соглашается Хендрикье. – И все же ты прав, лучше отдать доски кому-то надежному.
Надежных людей, да и просто друзей, в их жизни осталось немного. Одно время Рембрандт мог рассчитывать на поддержку бывшего капитана городской милиции Франса Кока, достигшего-таки цели всей своей жизни и ставшего бургомистром Амстердама. Но в прошлом году Кок умер; теперь в бургомистры прочат Андриса де Граффа, с которым у Рембрандта вышел когда-то спор из-за якобы непохожего портрета.
Рембрандт сблизился было с несколькими богатыми евреями, поселившимися по соседству, на Бреестраат. Поначалу Хендрикье было противно, она чуралась их, но потом оказалось, что это обходительные, приятные люди, выгодно отличающиеся манерами от амстердамских бюргеров. А теперь с ними у Рембрандта происходит то же самое, что раньше с заказчиками-христианами. Недавно Диего д’Андраде, важный еврейский купец, отказался принять заказанный Рембрандту портрет одной молодой особы – кстати сказать, и не дочери, и не жены, и даже не родственницы, но кто такая Хендрикье, чтобы судить заказчика? – потому что портрет этот совершенно на нее не похож. Рембрандт, как водится, отказался переделывать портрет, пока не получит за него денег. «А не получу, – сказал он д’Андраде, – продам портрет еще кому-нибудь; уверен, желающих найдется предостаточно». Ну кто захочет такое выслушивать? Вслед за д’Андраде другие сефарды стали холоднее обращаться с Рембрандтом, так что в последнее время у него не осталось почти никаких заказчиков, а значит, не осталось и никого, кто готов вверить ему в долг.