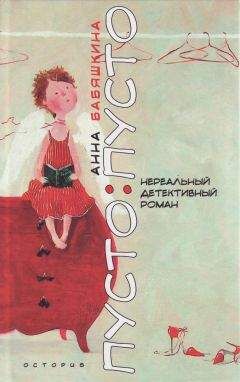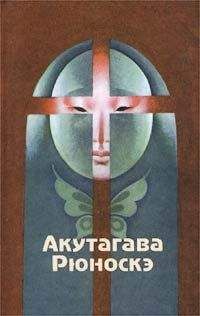Мышкину стало совсем плохо.
– Боюсь, что я не смогу… – пролепетал он.
– Нет, нет, сеньор! Не отказывайтесь! Я прошу вас, я просто умоляю: не отказывайтесь так сразу! Может ли для вас что-нибудь значить моя личная просьба? Хотите, я стану перед вами на колени? Сейчас же, здесь!
– О! – только и смог выговорить Мышкин, осознав, что он и есть самый большой мерзавец в Испании. – Наверное, нет на свете человека, который бы отважился отказать вам в любой вашей просьбе, сеньора Мария! Во всяком случае, я не из таких. Безмерно счастлив познакомиться с вами. Как жаль, что это не случилось двадцать лет назад! Но вы ошиблись в том…
– Вы настоящий кабальеро! – еще раз восхитилась Мария.
От трельяжа донеслось насмешливое квохтанье.
– Можно вам задать вопрос несколько на другую тему? – расхрабрился Мышкин.
– Сколько угодно! – воскликнула Мария. – На какую угодно тему! Отвечу на все ваши вопросы, сеньор профессор, даже если их у вас наберется не одна сотня.
– Меньше, – успокоил ее Мышкин. – Всего один.
Она кивнула и поощрительно щелкнула пальцами.
– Можно узнать, сеньора Мария, – осторожно начал Дмитрий Евграфович, – почему вы расстались с Майте Матеос? И можно ли надеяться, что когда-нибудь вы снова будете работать вместе?
Ответом было неожиданное зловещее молчание. Мышкин оторопел: перед ним была не женщина, а гранитная статуя со сжатыми губами и ничего не видящими глазами.
– Кажется, я допустил некоторую бестактность, – виновато пробормотал он.
Статуя не шелохнулась.
– Большое вам спасибо! – торопливо откланялся Мышкин. – Бесконечно рад с вами познакомиться. Всех вам благ! И большого человеческого счастья в личной и общественной жизни!
Статуя каменела по-прежнему. Зато Мариса ласково каркнула:
– Вау! – и послала Мышкину воздушный поцелуй.
Обливаясь потом, он поспешно увел Марину. За порогом они столкнулись с жирным Веней. Он, раскинув руки, как альбатрос крылья, не пускал в гримерную бородатого мужика в очках.
– Поймите же! – твердил мужик. – Я профессор богословия Дмитриев! Сеньора Мендиола меня ждет, у нас с ней условлено. Мы договорились встретиться еще два месяца назад.
– А что ж профессор без цветов? – возмущался Веня. – Или у профессоров не принято оказывать уважение даме? Сколько стоит такая аудиенция, тоже не знаете?
– Цветы я послал! Рассыльным! – заявил бородатый. – Спросите у нее. И визитную карточку приложил. Она ждет.
– Бежим! – шепнул Мышкин Марине. – По-моему, сейчас здесь будет жарко…
Они прошли к осветительской, но на двери висел амбарный замок.
– Не страшно, – успокоил себя Мышкин. – Позвоню ему позже.
На улице он осторожно спросил:
– Ты все поняла, о чем мы с ней говорили?
– Только отдельные слова. Я почти не знаю английского. Другое дело – испанский. С ним получше. О чем же вы так содержательно беседовали? Она переживала, по-моему. Очень волновалась. Ты ее напугал? Или обрадовал? Такой дурой себя чувствуешь, когда при тебе знакомые люди говорят на незнакомом языке. Поневоле думаешь: им есть что скрывать.
– Ни в коем случае! – воскликнул Мышкин. – Ничего такого не было!
– Так о чем? Можешь не говорить.
– Клянусь – ничего не утаю! Но все пересказывать долго и не нужно. В двух словах – могу. Она спросила, можно ли ей приехать ко мне на дачу.
Марина даже остановилась.
– Как ты сказал? На дачу?
– В Комарово. Я там снимаю дачку, маленькую, правда. Комната метров шесть.
– Так ведь у тебя, получается, и сесть негде.
– Есть еще веранда… Но Марии надо было другое. Спросила, можно ли ей попариться в бане на моей даче.
Марина раскрыла глаза.
– И это тоже не шутка?
– Какие там шутки! Когда было шутить?
– И что же, она одна к тебе приедет в баню? Или дуэт «Баккара» в комплекте с Лещенко?
– Не приедет, – грустно ответил Мышкин. – Я сказал ей, что у меня нет дров.
– Понятно… И сильно огорчилась?
– Очень. Но сказала: раз у меня дров нет, то она приедет со своими.
– Разумеется, – согласилась Марина. – Какая же испанка приезжает в Россию без своих дров!.. А Толедо при чем? Какое отношение имеет к бане? Она несколько раз упомянула Толедо.
– Скажу по секрету: у нее там своя дачка, – доверительно сообщил Мышкин. – Маленькая, правда. Примерно, как моя. И не в самом Толедо, а в пригороде. Сто километров езды. От бабушки досталась. А вот бани у нее нет. В Толедо не у всех есть свои бани на дачах.
– А дрова?
– Дрова у нее есть. Эвкалиптовые.
– Эвкалипт в Испании не растет. И что такое наша баня, испанцы не знают.
К счастью, они уже пришли к машине, и Мышкин решил не отвечать.
– Пристегнись, и помолчим, – попросил он. – Дорога трудная, машин с бандитскими подставщиками – море. Я могу за рулем что-нибудь одно: либо ехать, либо разговаривать. Есть водители, которые во время движения любят положить руку на колено девушки. Значит, они плохо делают и то, и другое.
– Очень рада, что ты не из таких. Или из таких?
Он нашел достойный ответ. Включил вторую передачу и резко дал газ. С визгом провернулись на асфальте задние колеса, выбросив струи синего дыма. Пахнуло горелой резиной, старушка волга, как настоящий форд-мустанг, рванула с места, приподняв переднюю подвеску, и через пятнадцать метров с визгом остановилась перед красным сигналом светофора.
– Шумахер! – усмехнулась Марина. – Можешь не стараться. Я тоже так умею.
Когда они приехали, Мышкин спросил поспешно, перехватывая инициативу:
– А что она по-испански говорила? Неужели ты все поняла? Такой трудный язык! – грубо польстил он.
– Поняла.
– Что-нибудь умное?
– Наоборот, абсолютную глупость. Я едва не умерла от смеха. Даже выйти хотела в коридор посмеяться вволю, но постеснялась.
– И что такого смешного она сказала?
– Она сказала, что ты умный и воспитанный молодой человек. Бездна интеллекта.
– Ага! Действительно, смешно, – мрачно согласился он.
Марина открыла ключом дверь парадной и вопросительно на него посмотрела.
13. Рембрандт ван Рейн. «Урок анатомии доктора Литвака»
Зажигать свет не стали. Ночь была необычайно светлой для конца июля, да еще кухня вся белая – стены, мебель, холодильник. Темнел только в графине коньяк и резко выделялся в буфетном зеркале среди сплошной белизны коричневый овал в очках – фас Дмитрия Евграфовича в дачном загаре.
Под шуршание потолочного вентилятора Мышкин расплылся в кресле, ему лень было даже языком пошевелить. Марина тоже молчала и только слегка улыбалась чему-то, аккуратно подливая Мышкину коньяк в крошечную рюмку – в ней помещалось двадцать восемь капель, двадцать девятая переливалась через край. Себе Марина налила апельсиновый сок в высокий стакан и бросила туда несколько кусочков льда.
Смачивая коньяком кончик языка, Дмитрий Евграфович искренне удивлялся самому себе – откуда у него сегодня столько спокойствия, уверенности в себе, неторопливости в мыслях и чувствах? Весь градус эмоций и ощущений, составляющих синдром гомеостаза – наиболее комфортного соматического, телесного, и психического состояния. Исчез даже потаенный, но привычный невротический страх долгих пауз в разговоре.
Обычно они Мышкина взвинчивали и даже подводили к астероидному состоянию, которое он тщательно скрывал, но не всегда успешно. Душа дрожала, нервные нити натягивались, словно струны на колках гитары, и были готовы лопнуть со звоном оттого, что все вокруг Мышкина не просто молчат – ждут от него чего-нибудь умного, острого, оригинального. Но именно в такие минуты, тяжелые и тревожные, как тишина перед грозой, голова его, как назло, пустела. Все умное в итоге находилось, но слишком поздно – когда он уже спускался вниз по лестнице.
В немецкой психиатрии такие прозрения называются «Der Treppenwitz» – «остроумие на лестнице», то есть безнадежно опоздавшее. Он знал это, как и то, что его потаенный страх показаться в глазах окружающих идиотом – симптом вялотекущей паранойи. Все понимал Дмитрий Евграфович, все! Но ничего поделать с собой не смог. И лишь когда начал заниматься понемногу медитацией, страхи мало-помалу отпускали его, но полной свободы Мышкину добиться не удалось.
Сейчас он вволю, до отвала, наслаждался молчанием на белой кухне Марины Шатровой. Тишина на двоих, оказывается, прекрасна. Она может быть легкой, прозрачной и радостно многозначительной. Мышкин не только ею наслаждался, он упивался невысказанным и потому остро переживаемым чувством благодарности к Марине за то, что она ничего умного от Дмитрия Евграфовича не требует, не ждет, а молчит или улыбается так, как он хочет и когда он хочет.
В конце концов, Мышкину все-таки захотелось что-нибудь сказать что-нибудь умное о себе.
– Про меня, понятно, испанки верно заметили. По поводу моей интеллектуальной мощи. Тут не поспоришь, – скромно отметил он. – А про тебя? Уверен, что они и о тебе успели посплетничать.