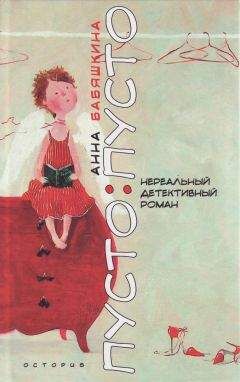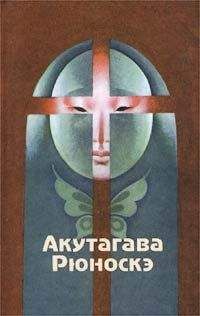– Так сильно? – недоверчиво переспросил Мышкин.
Она взяла его руку в белых сухих морщинах от ежедневного мытья спиртом и прижала к своей прохладной щеке.
– Очень жаль было. Как мальчика, который потерял маму в универмаге и не видит, что она рядом.
И тихо прибавила:
– И я подумала, что… – она остановилась и испытующе посмотрела ему в глаза, словно хотела убедиться, стоит ли продолжать. – Только не смейся… Хорошо? Обещаешь?
Мышкин медленно покачал головой. Он впитывал в себя звучание ее голоса и почти не понимал смысла ее слов.
– Если бы это зависело от меня, – решительно закончила Марина, – то я никогда бы не допустила, чтобы ты страдал. Даже по пустякам. Хотя страдать иногда не только полезно, но и необходимо. Чтоб душа не очерствела.
К двум часам ночи коньяк все-таки был выпит.
Их разбудил страшный грохот. Мышкин вскочил и глянул на часы: половина четвертого.
– Землетрясение? Дом взорвали?
Не отвечая, Марина накинула на себя длинный, до пола, красный бархатный халат и вышла в соседнюю комнату. Вернувшись, спокойно сообщила:
– Дом стоит. А муж упал.
– Чей муж? – в ужасе прошептал Мышкин.
– Мой. Чужих здесь не бывает.
– Так ведь ты же разведена! Или нет? Или я еще сплю?!
– Спишь. Но я, действительно, разведена. По закону, как полагается. Иначе тебя здесь бы не было.
– Тогда какого черта ему здесь надо? С лестницы спущу гада! – он схватил брюки.
– Он висел и упал.
Рука с брюками замерла в воздухе.
– Что? – прошептал Мышкин и приставил ладонь к уху. – Ты сказала, «висел»?
– Висел.
– Это как?..
– Обычно. На веревке.
– И давно?
– Давно.
– Сам?
– Да.
– Немедленно звони в полицию! Или лучше в прокуратуру. Ведь нас с тобой могут черт знает в чем обвинить!
– Он уже не висит. На полу валяется. А прокурору здесь делать нечего. Да кому он нужен? Был бы Репин, Серов, Рембрандт или, на худой конец, Пластов. А то какой-то Волкодавский.
Мышкин медленно, с усилием вдумывался в ее слова.
– Ничего не понимаю, – наконец, признался он. – При чем тут Волкодавский? Какой Волкодавский? Ты про художника Волкодавского?
– Про художника.
– Дела… – покрутил он головой. – Ты знакома с художником Волкодавским? Между прочим, мой приятель.
– Не знакома. Муж знаком. Извини, я лягу. Хочу догнать сон, иначе целый день пропадет, буду сонная ходить и хлопать глазами, как сова.
Она легка набок и положила ладошки под щеку.
– А как?.. – начал Мышкин.
Марина не пошевелилась.
Он прислушался к ее дыханию. Спокойное, в хорошем ритме. Уснула за несколько секунд. Как ребенок. Или человек с чистой совестью.
Осторожно Мышкин стал босиком на сколький теплый паркет, натянул брюки. Отыскал очки и на цыпочках прокрался в соседнюю комнату.
Там никого не было. Выглядела комната нежилой. Несколько чемоданов пирамидой у стены. Под окном у батареи отопления – какие-то узлы, стопки книг, перевязанных бечевкой.
Он пошел к книгам, оставляя на пыльном полу следы босых ног. «Ну и пылищи! – покачал он головой. – Лунные моря!.. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы…»
Наугад стер пальцем пыль с одного из книжных корешков. «Пропедевтика внутренних болезней», учебник для студентов первого курса медицинского института. Еще советское издание. Вытер другой – «Практическое руководство по патологической анатомии». Третий оказался справочником для судебно-медицинских экспертов. По стоматологии почему-то ничего. Марина стоматолог.
На полу лежала картина в дорогой багетной раме, изображением вниз. Мышкин поднял ее, отнес к балконной двери и приставил к стене. Голубоватого ночного света ему хватило, чтоб рассмотреть подпись художника в правом нижнем углу холста и дату в левом нижнем. Точно – Волкодавский. Мышкин всмотрелся в картину, ахнул и сел на пол, как подрубленный.
Из дорогой багетной рамы, словно в окно из потустороннего мира, смотрел на Дмитрия Евграфовича дикими воловьими глазами Литвак Евгений Моисеевич.
Был он в своем белом халате, как всегда, мятом и в пятнах. Понятно: Волкодавский всегда следовал правде натуры и не льстил заказчику. Он был хорошим художником, работал в традициях русского реализма, в грош не ставил любой модерн и авангард, считая, что это прибежище для мошенников. Реалистическое искусство не в пример требует огромного труда, мучений и страданий. А главное, честности. Вражеский лагерь в ответ щедро платил Волкодавскому ненавистью и клеветой, чем надежно обеспечивал его новыми заказчиками, в первую очередь, заграничными. Там русская реалистическая живопись ценится высоко.
На шее у Литвака висел фонендоскоп. В бороде угадывалась улыбка, снисходительно-брезгливая, типично литваковская – Волкодавский ухватил ее безошибочно.
Но при чем тут фонендоскоп? Вот большой секционный нож в руке и дисковая электропила на столе, под локтем – верные детали. «Зачем? – озадаченно размышлял Мышкин. – Не покойников же, в самом деле, прослушивать: «Дышите, не дышите…» Чего-то я перестал понимать в современном художественном реализме, – признал Дмитрий Евграфович. – А вот и я! Сукин сын Волкодавский меня нарисовал, но ничего не сказал!»
Композицией картина напоминала известный холст Рембрандта «Урок анатомии доктора ван Тюльпа». Сцена в голландском морге четыреста лет назад. Знаменитый Николас ван Тюльп учит лекарей и разных любопытствующих оболтусов, из чего сделан человек. У Рембрандта центр композиции – ван Тюльп. У Волкодавского, естественно, – Литвак. Стоит великое медицинское светило около секционного стола явно в Успенской клинике, в окружении десятка таких же оболтусов, как и у ван Тюльпа, и мудро указывает концом ножа на развороченный живот покойника.
Мышкина покойник на картине Волкодавского чем-то привлек, обеспокоил и даже встревожил. Дмитрий Евграфович всмотрелся… И узнал в голом мертвеце – желто-синем, со следами сильного разложения – главного врача Успенской клиники профессора Демидова Сергея Сергеевича.
Интересной оказалась и свита Литвака. Безусловно, Волкодавский, как до него Рембрандт, изобразил вокруг главного героя его коллег, учеников и просто поклонников. Все как один, смотрели на Литвака с таким благоговением, с каким фанатичные иудеи смотрят на ковчег со свитками Торы.
Среди почитателей Мышкин узнал не только себя. Вот и Клюкин в экстатическом восторге схватился двумя руками за свою капроновую бороду. А в дальнем углу – чуть только места хватило – Клементьева. Разинув рот от восхищения, конечно, пожирает Литвака восторженными глазами. Был здесь главный судмедэксперт города Карташихин, пара еще живых академиков из Москвы. И все они смотрели на Литвака с восторгом и даже с благоговейным страхом.
Мышкин плюнул Литваку в физиономию и ударом ноги вернул картину туда, где она валялась.
Он проснулся в половине двенадцатого от запаха жареной отбивной с луком. Из кухни доносилось скворчание сковородки. Мышкин принюхался. Вставать надо немедленно: отбивная почти готова.
– Замечательно! – сказал он, откладывая в сторону вилку и нож. – Всю жизнь мечтал позавтракать бифштексом, а не кашей или бутербродами. И вот мечта детства, наконец, исполнилась.
– Я рада, – просто сказала Марина. – Любая женщина рада накормить своего мужчину. А уж если ему понравилось…
– Скажи, почему ты скрыла, что была за Литваком?
Она усмехнулась.
– По-моему, я ничего не скрывала. Зачем? Да и невелика тайна.
– Но ты не сказала, что он твой бывший! – настаивал Мышкин.
– Ты не спрашивал – я не говорила. А навязываться к кому-нибудь со своими личными проблемами, думаю, не всегда хорошо. Тем более, мы полтора года в разводе. Его давно нет в моей жизни. Он мне давно неинтересен.
– И все-таки… – проворчал Мышкин.
– Что все-таки?
– Почему он вообще молчал, будто жены и не было? Мне сначала казалось это странным. Потом забыл.
Она не ответила.
– Скажи-ка, если не секрет, какая еще была причина? Это спрашиваю как врач! – поспешно добавил он.
– Хорошо, в следующий раз все тебе расскажу.
– В какой следующий?
– После следующего развода.
– Когда это? – встревожился Дмитрий Евграфович.
– Еще не знаю, извини. Придется тебе подождать. Сначала мне надо выйти замуж.
– За кого? – напрягся Мышкин.
– Да все равно, за кого! – рассмеялась Марина. – Лишь бы ты не обижался. Только мне тоже удивительно, что ты не интересуешься, как живут твои товарищи по работе. Никто из вашей конторы на свадьбу коллеги не пришел. Не говоря уже о разводе.
– То-то и оно: Литвак скрыл от нас и женитьбу и свадьбу. И развод. Будто преступление совершил. О том, что он женился, мы узнали через полгода, причем случайно. Если бы картина не упала, я до сих пор бы считал, что он женат. Хотя я его понимаю: о какой личной жизни может рассказывать человек, которого я за шесть лет ни разу не видел трезвым?