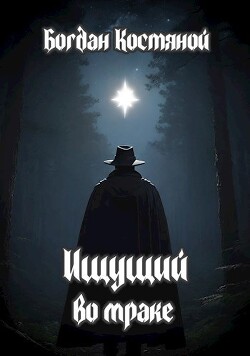«Надо идти дальше!» – дал себе мысленную пощёчину.
Ориентироваться в этом месте на нюх было не только невозможно, но и опасно для здоровья. Натянув воротник рубашки на нос, я прошёлся по коридору до дверей приёмного отделения. Они были заставлены шкафом, убрав который, я обнаружил вытекающую из щели лужу… чего-то. Некая жидкость, тошнотворный смрад от которой, едва не отправил меня в обморок.
Толкнув дверь, и сделав пару вдохов, я едва не свалился с ног, а в глазах резко помутнело. «Вот он, воздух нового мира, другого мы не заслужили».
Во время восстаний, сюда свозили пострадавших городских жителей, солдат, мракоборцев, членов эклизеархии, – да, в общем-то, всех нуждающихся. И это отделение, если память не изменяла, было предназначено для самых тяжёлых случаев. Сюда поступали люди, которых едва ли не полностью разорвали толпы еретиков.
Окровавленные, испражняющиеся под себя, стонущие и молящие о милосердной смерти, они покрыли нечистотами даже потолки. Когда мы отступили из этого района к церкви, ворвавшиеся дикари жестоко расправились с раненными прямо в постели.
Будто в морге, вдоль стен, в два ряда расположились мертвецы, лежащие, однако, не в гробах, а на пропитанных трупной чёрной жижей простынях. Свет от лампы затерялся в рое мух, под ногами хрустела засохшая кровь и лопались личинки опарышей. Вонь с новой силой ударила по носу, «воздух нового мира» комом встал мне поперёк горла и единственное, что ему сопротивлялось – подступающая с другой стороны рвота.
Ещё один вдох – и я бы потерял сознание, уснув на холодном полу в вязком болоте запёкшейся крови. Боль в рёбрах перестала для меня существовать, задержав дыхание, я быстрым шагом добрался до двери в конце отделения и вылетел в коридор.
Отголоски смрада тут присутствовали, но, по крайней мере, можно было спокойно дышать, хоть и не всей грудью. Преодолев несколько десятков шагов, я почувствовал лёгкий холодок, а до ушей донеслось завывание ветра и тоскующий плач скрипящих петель.
Вскоре под ногами, вместо скрипа дряхлых половиц, захрустела раздробленная плитка главного холла. Входные ворота были снесены, и на заржавелых петлях, в такт сквозняку, покачивались небольшие дощечки. «Здесь, как будто армия прошлась».
Помещение выглядело обгоревшим, осколки плитки покрывала застывшая в два слоя кровь, вперемешку с камнями хрустели обугленные косточки. Однако следы огня останавливались где-то вдоль левой стены, правая пострадала только от времени. «Значит, ливень остановил пожар… но не еретиков».
Преодолев холл, я, наконец-то, перешагнул порог больницы и оказался на ступеньках перед внутренним двором, где когда-то гуляли пациенты в перерывах между процедурами.
После того, как свет О погас, растительность в городах практически исчезла. Деревья и цветы из лесу научились получать энергию из лунного света. Хищники и травоядные теперь шастали в одно время, но куда тише, чтобы не выдать своё присутствие друг другу. Однако городские флора и фауна не имели ни малейшего шанса на выживание. Высокие дома и смог загораживали даже слабый лунный свет, а кошки и собаки были сожраны в числе первых.
Сад при больнице опустел. На месте живописных лабиринтов зелени, что благотворно сказывалась на здоровье больных, раскинулись безжизненные пустыри. Остроконечный забор порос плющом, что не нуждался в большом количестве энергии.
Ноздри обожгло холодным воздухом. «Это не осень и не зима. Просто мир без О. Ничего не поменялось за двадцать с лишним лет».
«Возможно, я последний разумный человек во всей столице… Куда мне идти? Какую дорогу не выбрать, везде поджидают только холод, мрак и трупы…» – эта мысль навила мне ещё одно воспоминание.
***
Когда до моего пятого дня рождения оставалось не так много, матушка позволила мне выйти с ней на улицу, но строго-настрого запретила отпускать её руку, и ни в коем случае не трогать туго затянутый на лице, мешающий говорить шарф.
Момент истины, которого я ждал всю свою недолгую жизнь, наконец, свершился. Мама открыла дверь и мне впервые довелось увидеть лестничную площадку. Напротив нашей квартиры стояла дверь, и ещё одна находилась справа, напротив спуска. Ступеньки были мокрыми и скользкими из-за растаявшего снега, вдобавок к этому, на лестнице не нашлось даже малейшего источника света.
Одной рукой держась за мамину руку, а другой – с трудом доставая до перил, я оказался в подъезде. Около стены стояла метла с ведром и ржавая рама от велосипеда, перед порогом лежала грязная тряпка, о которую вытирали ноги, и которую было бы неплохо сменить.
Холодная металлическая дверь с трудом поддалась маминому хрупкому плечу, и мы вышли на улицу. На ресницы тут же упали первые в моей жизни снежинки. Январские морозы не дотягивали до февральских (по словам родителей), но пробирали до костей ничуть не хуже, в чём я убедился в последующие годы.
Но это был мой первый выход на улицу, поэтому я с восторгом глазел на заснеженные улицы Норвилла: проходящие мимо люди выпускали облачка пара при каждом вздохе, хмурые дворники лопатами сгребали снег в двухметровые кучи. По вымощенной дороге проносились кареты чиновников и повозки купцов; весело гоготала ребятня, катавшаяся на санках по тротуару, мешая всем прочим.
Одно объединяло этих людей: почти все прятали лица за воротником или маской. Та самая красная смерть, что почти не оставляла шанса на выживание, заставляла их (и нас с мамой) это делать. Впрочем, зимой её угроза уходила на второй план, уступая место воспалению лёгких и обморожению.
Были и такие, кто беспечно щеголял с открытым лицом, держа в зубах сигарету. Потом-то я узнал, что в Норвилле табак был предметом роскоши, но вовсе не из-за наличия вредной привычки у большинства горожан. Всё дело в том, что сигаретный дым убивал заразу в горле, и не позволял осесть ей на коже лица. Жертвуя здоровьем в перспективе, курильщики защищались от преждевременной кончины из-за красной смерти.
Спустившись с крыльца нашего пятиэтажного домика, мы с мамой направились, с её слов, на рыночную площадь. В то утро погода особо не бушевала, да и снег перестал идти уже через несколько минут, давая мне возможность глазеть на окружающий мир.
Проходя мимо очередного дома, я заметил человека…
Он сидел по пояс в сугробе, облокотившись на стенку крыльца. Голова его была опрокинута, глаза забиты снегом, а бледно-синяя кожа напоминала мокрое полотенце, оставленное на морозе: скукожившееся, но притом гладкое.
Тогда я ещё не понимал, что впервые увидел труп. Матушка о них не рассказывала и, вспоминая о тех временах, могу сказать, что я даже не подозревал о существовании смерти. Поэтому задал вполне логичный, и единственный верный вопрос:
– Мамочка, а почему дядя сидит в снегу? Ему что, не холодно?
– Нет, Эдгар, ему уже не холодно. Пойдём, не смотри на дядю. Он засмущается, – отдёрнула меня матушка, и мы продолжили идти до нужного поворота.
Но нечто подсознательное, наверно, память предыдущих поколений, подсказывало, что с дяденькой не всё в порядке. «Человек не может вот так запросто сидеть, по пояс занесённый снегом!» – подумал я.
И вплоть до самого поворота я всё время оборачивался, ожидая, что дядька встанет, отряхнётся, и пойдёт по своим делам. Но вместо этого, к дядьке подошла парочка полицмейстеров, что-то пробурчала. Один из них свистнул, и напротив тела остановилась повозка, накрытая заснеженным полотном.
Раскопав труп, полицмейстеры ещё несколько минут спорили о том, как разогнуть замёрзшее тело, пока, наконец, не приняли решение сломать его пополам в спине. Взяв дядьку с двух концов, они бросили его в повозку, под полотном которой… лежала целая горка таких же замёрзших дяденек.
Что было дальше, в тот день, я особо не помню. Кажись, мы с матушкой пришли на рынок, купили каких-то обрезков свинины, пару картошин и морковку для супа.
Отца застали за бутылкой, впрочем, как и всегда. Обычный день выдался. Уже через неделю после него, я перестал обращать внимание на замёрзшие трупы бездомных.