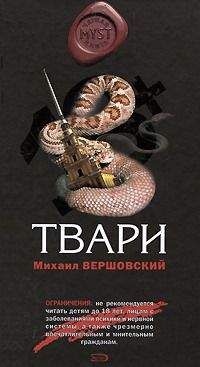Алина задумалась.
— В лаборатории мне делать уж точно нечего. Во всяком случае, сегодня.
— На этот счет гарантия стопроцентная, — подтвердил майор.
Ламанча внезапно повернулась к Кремеру.
— Петр Андреевич… А на Малую Охту подбросить можете?
Он испытующе посмотрел на нее.
— Теоретически, конечно, могу. Практически — крепко задумался бы. Сдается мне, что Сергей после того, что вечером произошло, не очень уж жаждет такой дружеской встречи. На троих. Он, то есть, я и вы. — Кремер взглянул на часы. — Да и до эвакуации осталось-то всего ничего. Так что скоро и товарища Телешова выкурят, и строем — до самого метро. Вам в ту же шеренгу не терпится?
— Наоборот. Я хотела… Хотела его увезти.
— Чтобы с прочим рядовым народом не погнали?
— Да нет же! — Алина даже хлопнула ладонью по колену. — Просто после вчерашнего — я ведь его знаю, я его вижу, едва ли не насквозь — опять он рухнет, если уже не рухнул, в раздирание да расцарапывание всех старых и новых болячек. А ведь только из норы своей на белый свет выбрался…
— Выбрался, — согласился Кремер. — Но и обратно заползти может, к бабушке не ходи.
Он побарабанил пальцами по баранке, потом достал мобильник, выбрал номер в меню и нажал кнопку автонабора. Алина наблюдала за ним, не говоря ни слова.
— Спать не спит точно, — рассуждал майор сам с собой. — Значит, общаться с кем бы то ни было очень не расположен. Ладно…
Он выключил вызов, и снова нажал автонабор. Через несколько секунд лицо его просветлело.
— О! А я уж боялся, что раз пять тебя набирать придется! Не скажи, что спал. Ага. Ну вот и добре. Значится, так, Сергей, слушай меня внимательно обоими ушами. «Швабский домик» на площади знаешь наверняка. Да мне плевать, по карману он тебе или нет — он же все равно закрыт. Да. Пехом тебе до него… так… минут, думаю, пятнадцать от силы. Во, видишь, адекватно, получается, оценил. Значит, чтобы через сорок минут возле упомянутого домика имени моей исторической родины и был. Как штык. Почему и зачем — разговор очень не телефонный. Никакая не шутка, а к тону моему мог бы уже и привыкнуть. Абсолютно серьезно. Сорок минут. Ну, давай.
Кремер сунул мобильник в карман и воткнул вторую передачу. Некоторое время они ехали молча, но на подъезде к Большеохтинскому мосту Алина не утерпела:
— Ему пятнадцать минут ходьбы, нам пять минут езды. Откуда же взялись сорок?
— Оттуда, дражайшая Алина Витальевна, что, во-первых, человеку штаны надеть надобно, если уж его на улицу выкликают. Без штанов, сами понимаете, оно менее элегантно смотрится. Сигареты в карман сунуть, бумажник — пусть даже и пустой, для форсу. Причесаться опять же. А за остающееся в запасе время вы, человек ученый, меня, глядишь, и просветите насчет того, что с Бардиным обсуждали. Просветите, не откажете. Вопреки даже инструкции того же товарища Бардина. А то не люблю я это дело: в серьезной ситуацией попкой бессмысленной быть, когда все остальные вроде как в курсе. Идет?
Алина, не отрывая взгляда от дороги, коротко кивнула.
Положив трубку на рычажки, он откинулся на спинку кресла и снова посмотрел на журнальный столик. Все тот же натюрморт, который он созерцал вот уже несколько часов. Пачка «Явы» с десятком сигарет, еще одна пачка, пустая, пепельница с горой окурков. Граненый стакан. Бутылка водки с открученной крышечкой, но по-прежнему полная. Сколько раз рука тянулась к ней? Даже и здесь, подумал Телешов, и в этом — все те же игры. И поставил, и, может, даже потянусь — а вот возьму и не налью. И, стало быть, не выпью. Силен, ох, силен, брат. Воля — что железо.
Оттого-то, наверное, позыв налить и выпить возникает каждые пять минут…
А вот, например, Кремер… Для чего, кстати, Кремер его вызвонил? Какого черта этому менту от него нужно — сейчас, сегодня, вообще? В четвертом часу то ли ночи, то ли уже утра? Стоп, ведь не о том поначалу думалось… Да, для примера такой вот Кремер. Тот бутылку на столик не выставил бы. А выставил бы — так налил бы и выпил. И снова налил. Потому что при его кремеровской жизни играть в подобные сопли, вопли и душевные драмы и ни к чему, и не получается. Дел невпроворот. Реальных дел. Потому-то поступки и движения какой-нибудь тринадцатистепенной важности на себя ни времени, ни сил душевных ни на копейку не оттягивают. Поставил — налил — выпил. Или вообще не ставь.
Господи, что же за месиво в голове у меня, что же за муть беспросветная в душе моей, подумал Сергей. Господи. И жалость-то она как будто и настоящая, жалящая жалость — к Гошке-горемыке и к жене его, так ничего и не понявшей и без конца повторявшей: «Почему? Почему? Почему?» И к администраторше, никакой не грозной мымре, а обычной перепуганной, растерянной и беззащитной женщине. И к Гамашу, и к Ромео, и к бедолагам Халявиным… Но ведь, Господи…
Но ведь ложь это все, Господи, и ложь от начала. Потому что жалость-то вся на самом деле — к себе, любимому, непонятому, ранимому, недооцененному. Да, собственно, и единственному, если уж без экивоков. Ведь все другие — они как бы и не взаправду, они же не могут так же чувствовать, думать, надеяться, страдать? Свои-то чувства, думы, страдания, надежды — я знаю, я ощущаю их всем существом своим, они настоящие, они всерьез, и зудят всерьез, и болят всерьез. И умом своим, Господи, понимаю я, что и другие, наверное, испытывают то же — но это умом понимаю я, а почувствовать-то мне и не дано! Так как же верить мне, что и другие — как я?!
Они, эти другие, то ли статисты, то ли куклы в маленьком театрике абсурда имени Сергея Телешова. Я знаю, что есть я — но откуда же мне знать, что есть другой? Он есть до тех пор, пока жизнь его каким-то боком пересекается с моей. Произнес положенный текст и — за кулисы. А за кулисами он уже не говорит, не думает, не страдает. Да и вообще, есть ли он — там, за кулисами? Или ушел — исчез, растворился, рассеялся в небытии до следующего выхода?
Вот и Вселенная — моя, личная, собственная — вполне умещается под одеялом. А боль других, какой бы жуткой ни казалась мятущемуся уму, рано или поздно скукоживается до размеров крошечной сладко ноющей жалости к себе. Любимому. Странною, однако, любовью любимому — такой, в которой ненависти, пожалуй что, и больше. И уж во всяком случае больше — отвращения. А вопрос налить или не налить вырастает до уровня проблемы экзистенциальной, едва ли не космической. Да чего там «едва ли» — космической, по самой полной программе. В этой моей уютной индивидуальной Вселенной. Той, что под одеялом.
Ложь это все, Господи, и ложь от начала. И к правде — а, значит, и к жизни самой — сердцем своим так я и не прикоснулся.
Телешов встал, подошел к столику и, взяв бутылку водки, направился с ней на кухню. Подойдя к раковине, он отвернул крышечку и опрокинул бутылку донышком вверх. Потом пристукнул пустой бутылкой по краю раковины.
— Твое здоровье, Сергей Михалыч.
Он швырнул бутылку в мусорную корзину, прошел в комнату, сунул сигареты в карман джинсов и, набросив в прихожей легкую куртку-плащевку поверх рубашки, толкнул дверь. Уже захлопнув ее, он принялся ощупывать карманы, но вспомнил, что ключи остались там, где всегда и лежали — на книжном стеллаже. Телешов махнул рукой. Не впервой. Его мудреный замок без проблем открывался отверткой или перочинным ножиком. Раз-другой выручала и вилка.
Сергей вышел из подъезда и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Однако тихой сегодняшняя ночь не была. С разных сторон — где ближе, где дальше — слышалось урчание машин и возбужденные человеческие голоса. Странно. Может, что-то уже объявили по радио или по ящику? Хотя кто же их слушает в такое-то время…
Пройдя с десяток шагов по дороге вдоль дома, он поднял голову. Две трети окон все-таки были темными. С другой стороны, треть квартир, где народ не спал и, судя по всему, активно шевелился — совсем немало для половины четвертого.
Он внезапно остановился. В одном из темных окон на четвертом этаже он увидел прижавшегося к стеклу ребенка лет трех-четырех, слабо освещенного светом фонаря, пробивавшимся сквозь густую листву деревьев. Сергею не раз доводилось видеть его там и прежде — в такой же позе, с ладошками и личиком, прилипшими к оконному стеклу, всегда молчаливого и неподвижного. Краем уха Телешов слышал, что родители пьют-гуляют сутками напропалую — чаще дома, порой и «на выезде». Кормить малыша они, пожалуй что, как-нибудь, да кормят. А в остальном… Что же у нее, этой маленькой человеческой души, «в остальном», если какая-то недетская безысходность вела и ведет ребенка к подоконнику, с которого он часами напролет немигающими глазенками смотрит в ночь?…
Сергей мотнул головой и быстрым шагом двинулся вдоль дорожки.
Кремер заглушил мотор и погасил фары.