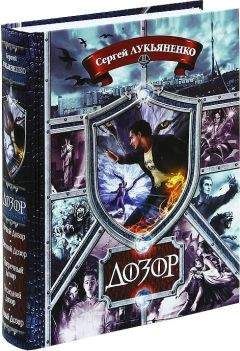– Извините.
Мордоворот поднимает взгляд. Холодный, пронзительный.
– Можно поинтересоваться, что вы читаете?
– Книгу, – привычно отзывается он.
– Поэзия?
– Нет. – Он демонстрирует обложку.
Фигуристая блондинка в «мини», атлетический брюнет в коже и сияющий хромом «Харлей-Девидсон», на кожаном сиденье которого они сплелись в страстных объятиях.
– Это же… Это дамский роман?
– Можно сказать и так, – пожимает плечами Петр Евгеньевич, опустив взгляд.
Заготовленные мысли, словно песочный замок под ударом приливной волны, разлетаются по разным уголкам черепа.
– Интересно?
– Да.
– Незнакомый автор, – не стала лгать я. Мое знакомство с данным видом литературы ограничивалось парой-тройкой книжек в мягком переплете, со скуки прочитанных в поезде. И то только из-за неимения альтернативы. Да еще той, которая в камере, но считать чтением упорное смотрение на буквы нельзя. В голове прочитанное не откладывается. Оно даже не воспринимается. – Нравится?
– Угу.
Мордоворот не проявляет желания продолжать разговор, но я не намерена отступать. С Ницше он тоже не выказывал интереса, но книгу оставил.
– Немного необычный выбор.
– Отчего же? – вновь поднимает взгляд Мордоворот.
– Слишком разная литература: поэзия и женские романы. После Ницше как-то ожидаешь более серьезной, скорее даже классической литературы. Достоевского, Хемингуэя, а если современных авторов, то более склонных к философствованию. Того же Умберто Эко.
– Вот тут позвольте с вами не согласиться. В основе поэзии, равно как и женских, хотя мне больше нравится термин «дамских», романов лежит романтика.
– Никогда с этой точки зрения не смотрела, – признаюсь я.
– Почитайте Жуковского и любой роман на тему средневековой Европы. Да тот же Ницше воспевает стремление к счастью, пускай и путь этот ведет через обретение свободы от моральных оков. А упомянутые вами классики и современники мне, право, скучны.
– Но…
Мордоворот, отложив книгу, улыбается. Одними губами. Взгляд не теплеет ни на градус. Но где-то там, в глубине бездонных омутов, на миг мерещится любопытство.
– С моей точки зрения, художественной литературой имеют право называться только те книги, которые доносят до читателя идеи и мысли легко, ненавязчиво… А если нужно вчитываться, продираясь через нагромождение скучнейших описаний, чтобы докопаться до крупинки мысли, то это не литература. Это научный трактат на тему человеческих отношений, своего рода учебник. Но если пособие по анатомии никто не назовет художественной литературой, то почему препарирование не тела, а души – называют.
– Смело, – заявляю я, заметив, что у собеседника появилось желание продолжить разговор. Вот и прекрасно. Значит, пора его прекращать. – Как бы мне хотелось всесторонне рассмотреть этот вопрос, но, к сожалению, мне пора работать. Извините, что потревожила.
Скромно улыбаюсь собеседнику и спешу к гладильной доске.
– Еще раз можно? – робко привлекает внимание к себе рыжебородый парень. Волосы взъерошены, на лбу масленый след пальцев. Рукава халата закатаны до самых плеч.
– Заводи, – дает добро Мордоворот.
Мотор взревел, лопасти со свистом принялись рассекать воздух.
Парень просиял и проорал, пытаясь перекричать рев работающего механизма:
– Работает!
– Выключай, – машет рукой надсмотрщик.
Рыжебородый ударяет рукой по красной кнопке. Мотор, чихнув, замолкает.
– Ты продолжай работать, – произносит Мордоворот, кивнув мне. – А ты иди за мной.
– А Господин Кнут обещал, – вкрадчиво напоминает парень.
– У него и потребуешь, – прерывает его Петр Евгеньевич.
– Да я просто… – идет на попятный механик.
Они удаляются.
Я вздыхаю и возвращаюсь к глажке. Как говорила жена тибетского мудреца: «Если дорогу осилит идущий, то глажку – женщина с утюгом».
На следующий день, когда уносят грязную посуду, у моей камеры останавливается Мордоворот.
Я замираю в ожидании.
– Читала? – спрашивает он.
– Да. И пыталась спорить с вашими идеями о литературе.
– И как? – интересуется надзиратель, поправляя кобуру.
– С собой спорить легко.
– Это точно.
Разворачивается и идет в караульное помещение.
Я возвращаюсь на кровать.
Только сажусь, раскрываю книгу, твердо вознамерившись подобрать и заучить пару цитат, у решетки мелькает тень.
Вздрогнув, поднимаю глаза.
Мордоворот засовывает ключ в замок.
– Пошли, – распахнув дверь, завет он.
Отложив книгу, вскакиваю на ноги.
Внутри все сжимается в тугой комок, горло перехватывает, ладони потеют.
Следую за Мордоворотом в его комнату.
Господин Кнут криво усмехается, но от комментариев воздерживается.
Пытаюсь угадать: сперва поговорим, а потом в койку, или обойдется без разговоров.
– Присаживайся, – указывает на кресло хозяин.
Сажусь, закидываю ногу на ногу. Пола халата послушно ползет по бедру, обнажая стройные ножки. Еще бы желтушные пятна сходящих синяков убрать да рубцы под тональным кремом спрятать – было бы совсем неплохо.
Стреляет быстрым взглядом, но на лице не вздрагивает ни один мускул. А в глазах…
Пройдясь к буфету, открывает верхнюю полочку, достает бутылку вина, пару бокалов.
Решил сперва подпоить… джентльмен.
Взяв протянутый бокал, подставляю его под струю рубинового напитка. На этикетке надпись незнакомая, по написанию на французский язык похоже.
Демонстрируем утонченность?
Наполнив второй бокал, Мордоворот опускает бутылку на столик и садится в кресло напротив.
– Прошу, попробуйте.
На столике рядом с ополовиненной бутылкой появляется коробка шоколадных конфет. Не французских – Донецкой кондитерской фабрики. Но по цене вполне сопоставимых. А по качеству – однозначно выше.
Пригубив вино, пытаюсь придумать подходящее случаю высказывание. Но в голову лезут лишь заезженные банальности. «Изысканный букет» или «богатая вкусовая гамма».
Так и не решившись на что-либо, нарочито довольно жмурюсь и кладу в рот конфету.
В глазах напротив, как в объективе видеокамеры, чувств нет.
Вдохнув запах вина, любитель поэзии и дамских романов делает медленный глоток. А затем начинает что-то напевно говорить.
Замираю.
Насколько гортанные звуки тягучи и мелодичны. Скорее всего он говорит по-французски.
И как мне реагировать?
Замолчав, Мордоворот делает глоток и откидывается на спинку.
– Что это? – осторожно интересуюсь я. Надеюсь, он не сочтет меня непроходимой дурой.
Не счел. Пояснил:
– Стих.
– Жаль, я не знаю языка.
– Да, кто сейчас французский учит… практичнее английский освоить, а перспективнее – китайский.
Улыбаюсь, показав, что оценила шутку.
Глядя на его лицо, можно предположить, что это, возможно, была и не шутка.
Еще глоток.
Мордоворот доливает себе вина, предлагает обновить мне.
– Благодарю, – отказываюсь я. – Пока не нужно.
– Не желаете поделиться со мной мыслями о литературе?
Ну, прямо литературный вечер в салоне девятнадцатого века.
– Конечно. Вот вы говорили, что художественная литература должна читаться легко…
– Не совсем так, но, по сути, верно.
– Так вот, – продолжаю я, держа за хвост ускользающую мысль, – легкость чтения ведь у каждого своя. Многие считают легким чтением бульварные газеты, а для некоторых и энциклопедия перед сном – словно сказка на ночь.
– Продолжайте, – подбадривает собеседник.
– Но назвать газетные статьи художественной литературой нельзя.
– Почему?
– То есть? – несколько растерянно спрашиваю я.
– Возьмем, к примеру, статью о каком-нибудь политике.
– Ну… давайте.
– Чем не социально-фантастический рассказ с элементами триллера.
– Но в рассказе вымысел…
– А в статье тоже. Как и фантаст, журналист применяет свое воображение, чтобы изобразить события, которые происходили либо которые как бы происходили, под таким углом зрения, чтобы донести до читателя точку зрения автора. И совершенно не важно, его ли родная эта точка зрения или с нее он смотрит за определенную сумму денег.
– Как-то ловко вы переворачиваете все с ног на голову, Петр Евгеньевич.
– Просто пытаюсь думать, а не принимать на веру то, что кто-то когда-то произнес как истину, – с некоторым пафосом произносит Мордоворот.
– Но…
– Небольшой пример.
– Прошу.
– Возьмем белый лист бумаги. Я ткну в него пальцем и скажу – черное. А кто-то скажет белое. Кто прав?
– Конечно, тот, кто сказал белое, – ответила я.
– Это вы так думаете. А на самом деле мой палец вымазан в чернилах, и если я его уберу, то останется черное пятно. Так что то место, куда я указывал, – черное. Вы согласны со мной?
– Вроде бы и не совсем, но доводов против подобрать не могу, – признаюсь я, виновато улыбаясь.