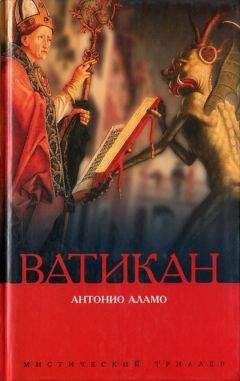— Какой ты сладкий, — говорил он. — Делаешь гимнастику?
— Хватит, Лучано, — властно произнес доминиканец, стараясь остановить монсиньора.
— Мы так довольны, что ты приехал, брат Гаспар, мальчик мой, наш мальчик, какая удача.
— Лучано, прошу тебя.
Но тот не слушал.
— Благодарю Тебя, Боже, — говорил монсиньор, — благодарю Тебя за то, что Ты дал нам этого ангелочка.
Потные ручки монсиньора ласкали живот Гаспара, его волосы, спину, грудь и ляжки, и он покрывал его щеки и шею мелкими, очень нежными, почти детскими поцелуями; дыхание его стало прерывистым, а голубые миндалевидные глаза затуманились восторгом.
— Как мы тебя любим, брат Гаспар, мальчик наш, наш ангел.
От звуков его медоточивого голоса брата Гаспара слегка подташнивало, а его поведение, недостойное монсиньора, вызвало у него немалое возмущение.
— Лучано, — сказал он, вставая и освободившись наконец от его хватки, — сожалею, что ты вынуждаешь меня к этому, но я должен попросить тебя уйти.
— Но почему? Неужели мы даже не допьем вино?
Его голос звучал уже почти как обычно, дыхание стало ровнее, он быстро успокаивался и скоро выглядел обыкновенным священником, невинным и чистым.
— Давай сядем, — примиряюще предложил он. — Допьем вино, и я уйду. Обещаю.
Брат Гаспар уступил скрепя сердце и, видит Бог, поступил неправильно, потому что две-три минуты спустя — бедняга Гаспар, дабы не смущать монсиньора, по совести решил избегать всяческого упоминания о произошедшем несколько мгновений назад — монсиньор снова взял его за руку и принялся грубо, нервно поглаживать ее. У него самого были пухлые волосатые ручки, ледяные и горячие одновременно. Брат Гаспар с силой вырвал свою руку.
— Не понимаю тебя, — сказал он, стараясь сохранять спокойствие, хотя это было уже невозможно. Он продолжал жевать вязкий кусочек гриба, попавшийся ему на зуб.
— Чего ты не понимаешь? Что мы тебя любим? Этого ты не понимаешь? Господь наш заповедовал нам: «Возлюбите друг друга, возлюбите друг друга». Так чего же ты не понимаешь?
— Не смешивай разные вещи.
— Какие вещи?
— Сам знаешь.
— Что значит «сам знаешь»?
— Лучано, ты не должен себя так вести.
— Почему? Ну-ка ответь — почему?
— Потому что сексуальное наслаждение, — попытался урезонить его брат Гаспар, — это несовершенный и узкий путь познания Бога, а познание Бога — наше самое сокровенное призвание.
— Смирись, — сказал Лучано с беспредельным презрением, — если Бог познал тебя, не претендуй на то, чтобы познать Его!
— Все наше богословие, — продолжал увещевать его брат Гаспар, не смущаясь резким тоном монсиньора, — и все наше вероучение, учрежденное апостолами, Отцами Церкви и святыми, направлено на познание Божественной сути, чтобы благодаря этому познанию забыть о самих себе, о наших низменных личных интересах, равно как и о плотских утехах. Религиозный дух принимает мир, ибо отрекается от самого себя, и живет во имя любви к ближнему и Божественному Творению и благодаря им.
— Тебе только лекции читать, как скучно. Послушай, Гаспар, я — часть этого Творения, и хотя бы поэтому ты не должен пренебрегать мной. Ты поступаешь плохо. Ведь ты тоже часть Творения, разве нет? Почему же ты так упрямо считаешь себя каким-то особенным?
— Хватит, Лучано. К сожалению, я должен просить тебя уйти.
— До чего же ты правоверный, — вздохнул монсиньор. — Ты безнадежен, сын мой.
— Сложившееся положение кажется мне неприемлемым. Не вынуждай меня принимать меры.
— Об этом-то я и прошу, — язвительно сказал Лучано, — прими меры, Гаспар, прими меры. Я тебя не разочарую.
— Да? Ладно, тогда это будет первое дело, о котором я переговорю с Папой. Посмотрим, как тебе это понравится.
— Значит, донесешь, а? — И монсиньор покачал головой, выказывая свое неодобрение.
— Я обязан.
— Так, выходит, доносы — обязанность? — разъяренно спросил Ванини. — С каких это пор? Не помню, чтобы в Евангелии было об этом написано. Ну-ка скажи, где ты про это вычитал, умница? Хитер, хитер, брат Гаспар.
— Тогда остановись, пока не поздно.
— И что же ты ему скажешь? — сказал монсиньор, похоже, достигнув точки кипения. — «Святой Отец, Святой Отец, монсиньор Лучано — Вельзевул, монсиньор Лучано — Вельзевул». Вот что ты ему скажешь? Думаешь, он сам про это не знает? Скажу тебе две вещи, дорогой Гаспар: во-первых, знай, что Папа выбрал именно меня, потому что я — такой, какой есть, а во-вторых, знай, друг Гаспар, что для того, чтобы увидеться с ним, ты должен пройти через меня, иначе говоря, я, и никто другой, являюсь связующим звеном между тобой и Папой, не какой-нибудь кардинал или архиепископ, а я — простой и скромный монсиньор, я, и если я не захочу, ты никогда с ним не встретишься. Теперь ясно? Да? Так не испытывай мое терпение.
Брат Гаспар не нашел в себе сил ответить ему, но тут же почувствовал, как маленькая потная ручка монсиньора снова схватила его руку и начала грубо мять ее, а еще через мгновение он упал перед Гаспаром на колени и опять превратился в существо, обезумевшее от похоти.
— Маленький ты мой, — говорил монсиньор, стыдливо его щупая — так, что брат Гаспар испугался, что возбуждение может овладеть и им, что в действительности и происходило, — мой мальчик, как мы тебя любим! А это что? Что это у нас тут? Надо же, у такого ангелочка…
— Лучано! — воскликнул Гаспар, вырываясь из его рук и больше не в состоянии сдерживать гнев. — Либо уйдешь ты, либо я!
— Но…
Брат Гаспар не позволил монсиньору вновь прибегнуть к своим уловкам, чтобы продлить эту отвратительную ситуацию.
— Лучано, я ухожу.
Сказано — сделано: он поспешно прошел к дверям, слыша за спиной взывавший к нему резкий голос — теперь он снова стал резким, — спустился по лестнице и с единственным намерением уйти как можно дальше от заразной, возбужденной твари на ходу пробормотал приветствие добрейшему Филиппо и вышел на улицу.
Дождь продолжался, и едва брат Гаспар отошел от гостиницы, как молния расколола темный небосвод. Не зная хорошенько, что делать и куда направиться, он решил встать под дерево, вместо того чтобы бесцельно блуждать по безлюдному и призрачному Ватикану. Он предположил, что монсиньор Лучано Ванини не осмелится дольше оставаться у него в номере. Или по крайней мере ожидал этого. Он представлял, как монсиньор бьет себя в грудь или выдумывает какое-нибудь убедительное извинение назавтра, вероятно напуганный возможной отставкой. Нет, он мог не волноваться: несмотря на угрозы, он никогда не донесет. Единственное, чего хотелось брату Гаспару, это увидеть, как он выйдет из здания, и снова занять предоставленное ему жилье.
С того места, где он стоял, чувствуя, как римский холод и сырость вновь пробирают его до костей, он различал свет в окне, но не видел никакой человеческой фигуры. Через десять минут — десять минут, которые протекли медленно и тоскливо, как века, — он увидел, как монсиньор выходит из здания, поэтому ему пришлось спрятаться за изгородью и осторожно за ним наблюдать. Монсиньор поглядел направо и налево, потом вдаль, но, слава Богу, не заметил присутствия экзорциста. Раскрыв зонтик, он направился к ватиканской парковке. Гаспар не хотел рисковать и, несмотря на усилившийся дождь, оставался на месте, пока не убедился, что нет ни малейшей возможности, что его заметят в его укрытии.
Когда он снова вошел в подъезд, Филиппо встретил его улыбкой.
— Снова вымокли!
— Как видишь, — ответил брат Гаспар, — люблю дождь. Это дар Господень.
— Все вы, доминиканцы, такие оригиналы! — воскликнул Филиппо.
Успешно преодолев это последнее препятствие, брат Гаспар поднялся по лестнице, вошел в номер, снял мокрую одежду и обнаружил, что ему нечего надеть, поэтому, прикрыв наготу двумя полотенцами, принялся сушить рясу на батарее. Дождь по-прежнему стучал в стекло, и все так же грохотал гром, и Гаспар тосковал по своим братьям и мирному уединению монастыря. Произошедшее оставило в нем глубокий отпечаток, наиболее ясно проявлявшийся в общем недомогании и обостренной, параноидальной чувствительности: у него было странное ощущение, что Лучано каким-то образом все же не покинул ватиканской гостиницы, поэтому, несмотря на то что он сам видел, как тот вышел из здания, он на совесть обследовал все три комнаты: спальню, кабинет и гостиную. Ему, привыкшему к строгому убранству своей кельи, белым стенам, скудной обстановке из благородного темного дерева, деревенским запахам, примешивавшимся к запаху ладана, эти помещения представлялись неуютными, так как и здесь в равной степени царил дурной, тяготеющий к роскоши вкус. Однако он в очередной раз сумел совладать с собой: его ожидало чтение вверенного ему доклада, а также медитация и уединение, о котором, казалось, вопиял его изжаждавшийся дух.