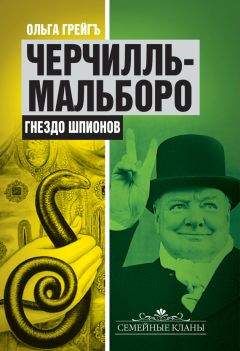— Тебе она вряд ли понадобиться, — говорит Барбара Джерому. — Ты в городе сейчас почти не бываешь. Может, ты бы мне передал?
— А она не передается, — самоуверенно говорит Джером. — Лучше пусть у меня будет. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы с законом. Да и тебя теперь Дерис везде водит. Только слишком далеко не заходите, если ты понимаешь, о чем я.
— Ну, ты как маленький, — говорит Барбара и обращается к Питу: — А сколько всего было самоубийств?
Пит вздыхает. Четырнадцать за пять дней. У девятерых были «Заппиты», теперь такие же мертвые, как и их хозяева. Старшему было двадцать четыре, младшему пятнадцать. Один парень из семьи, как соседи говорили, несколько слишком религиозной — наряду с такими христиане-фундаменталисты считаются либералами. Этот еще родителей и маленького братика с собой забрал. Стрелял из ружья.
Все пятеро на минуту замолкают. Игроки за другим столиком вдруг расхохотались над чем-то своим.
Пит нарушает молчание:
— А попыток было более сорока.
Джером присвистывает.
— Да, понимаю. Газеты об этом не пишут, по телевизору не показывают, даже на «Убили-зарезали» не передают, — такое прозвище получила в полиции малобюджетная радиостанция Дабл юКейЭмЭм, лозунгом которой было «Чем кровавее, тем лучше». — Но, конечно, многие из тех попыток — может, даже большинство — обсуждались в соцсетях, и это может породить новые. Терпеть не могу такие сайты. Но все в конечном итоге определится и успокоится. Эпидемии самоубийств всегда проходят.
— В конце концов, — отвечает Ходжес. — Но с соцсетями или без них, с Брейди или без него, самоубийство в нашей жизни существует.
Говоря это, он смотрит на картежников, особенно на двух лысых. Один выглядит хорошо (настолько, насколько, к примеру, Ходжес), — а второй, с запавшими глазами, похож на живой труп. Одна нога в могиле, а вторая — на банановой кожуре, как сказал бы отец Ходжеса. И мысль, которая возникает у него, является слишком сложной — слишком тяжелой от ужасной смеси гнева и печали, — чтобы ее выразить. Он думает о том, как некоторые люди легкомысленно разбазаривают то, за что другие продали бы душу: здоровое, свободное от боли тело. А почему? От слепоты, от эмоциональных ран, от того, что слишком сосредоточены на себе, чтобы за темным горизонтом увидеть скорый рассвет. Который наступит, только если ты еще будешь дышать.
— Еще тортик? — спрашивает Барбара.
— Нет. Ибо лопну. Но, если можно, подпишу вам гипс.
— Пожалуйста, — говорит Барбара. — Напишите что-нибудь остроумное.
— О, это Питу по силе, — говорит Ходжес.
— Фильтруй базар, Кермит! — Пит становится на одно колено, словно хочет сделать предложение руки и сердца, и что-то старательно пишет на гипсе Барбары. Дописав, он встает и смотрит на Ходжеса: — А теперь скажи правду: как ты себя чувствуешь?
— Черт, да нормально. Мне прилепили такую штуку, которая лучше контролирует боль, чем таблетки, и завтра я уже на свободе. Не дождусь, чтобы спать в родной постели. — И после короткой паузы: — Я одержу победу над этой хреновиной!
Пит ждет лифт, когда его догоняет Холли.
— Это для Билла очень много значит, — говорит она. — То, что ты пришел, что ты все также ждешь от него первый тост.
— А с ним не все так замечательно, не так ли?
— Нет. — Он протягивает руки, чтобы ее обнять, но Холли отступает назад. Но быстро пожать руку она ему позволяет. — Не так замечательно.
— Вот дерьмо.
— Да, все так, дерьмо. Именно так это и называется. Он не заслужил такого. Но если уж с ним это произошло, ему нужно, чтобы рядом были друзья. Вы будете, правда?
— Ну конечно. И не сбрасывайте его со счетов, Холли. Где жизнь, там надежда. Понимаю, что это штамп, а все же… — Он пожимает плечами.
— И надеюсь. Как умеет Холли.
Не сказать, что она такая же странная, как раньше, думает Пит, но все равно чудная. А ему это и нравится.
— Только позаботьтесь, чтобы он свой тост четко сказал, хорошо?
— Постараюсь.
— И слушайте — он же пережил Хартсфилда. Пусть будет что будет, но это уже есть.
— У нас всегда будет Париж, маленькая, — в манере Богарта из фильма «Касабланка» отвечает Холли.
Да, действительно чудная. Таких больше нет.
— Слушайте, Гибни, о себе тоже позаботьтесь. Чтобы не случилось. Ему будет очень плохо, если вы этого не сделаете.
— Я знаю, — говорит Холли и идет обратно в солярий, где вместе с Джеромом уберет после празднования. Она говорит себе: это не обязательно последний день рождения, пытается себя убедить. Это не очень удается. Но она надеется, как умеет Холли.
восемь месяцев спустяКогда Джером приходит на кладбище Файрлоун через два дня после похорон, ровно в десять, как и обещал, Холли уже там: стоит на коленях в изголовье могилы. Она не молится, а сажает хризантемы. Холли не поднимает голову, когда ее накрывает его тень. Она знает, кто пришел. Они об этом договорились после того, как она сказала ему, что не знает, сможет ли выдержать похороны до конца.
— Я попробую, — сказала она. — Но, блин, я такие штуки тяжело переношу. Может, мне придется уйти.
— Их осенью сажают, — объясняет она сейчас — я мало чего много знаю о цветах, то у меня пособие есть. Написано так-сяк, но все понятно разжевано.
— Хорошо. — Джером садится по-турецки в конце участка, где начинается травка.
Холли аккуратно разгребает землю руками, так и не взглянув на него.
— Так я говорила, что, может, мне придется уйти. Все на меня так посмотрели, когда я ушла, но я просто не могла оставаться. Если бы я осталась, они бы потребовали, чтобы я встала у гроба и рассказала что-то о нем, а я просто не могла. Перед всеми этими людьми не могла. Дочь его, видимо, злится.
— Да, пожалуй, нет, — говорит Джером.
— Не выношу похорон. Ты знаешь, что я в этот город на похороны приехала?
Джером знает, но ничего не говорит. Просто дает договорить ей.
— Моя тетя умерла. Мать Оливии Трелони. Там, на похоронах, я и встретила Билла. Оттуда я тоже сбежала. Я сидела за залом, курила, и было мне очень скверно, там он меня и нашел. Понимаешь? — Она наконец-то смотрит на него. — Он меня нашел.
— Конечно, Холли, понимаю.
— Он для меня открыл дверь. В мир. Он дал мне такое дело, которое все изменило.
— И у меня то же самое…
Она вытирает глаза почти сердито.
— Ну какое же все-таки долбанное свинство.
— Все так, но он бы не хотел, чтобы ты вернулась к тому, что было у тебя раньше. Он бы совсем этого не хотел.
— А я и не вернусь, — говорит она. — Ты же знаешь, что он мне компанию нашу завещал? Страховка и всякое такое отошло к Элли, а компания моя. Я сама ей управлять не могу, и я спросила, не хочет ли Пит со мной поработать. Ну, так, на часть ставочки.
— А он?
— Сказал, да, потому что пенсия ему уже осточертела. Должно получиться хорошо. Я буду записывать всяких неплательщиков на компе, а он будет ходить и их доставать. Будет разносить повестки, если до этого дойдет. Но по-прежнему уже не будет. Работать на Билла… с Биллом… это были лучшие времена моей жизни. Я чувствовала… просто не знаю…
— Что тебя ценят?
— Да! Что меня ценят!
— Так и надо было себя чувствовать, — говорит Джером. — Ведь ты очень ценный человек. И была, и есть.
Она в последний раз бросает критический взгляд на цветы, отряхивает землю с рук и брюк и садится рядом с Джеромом.
— Он был мужественный, правда? И в самом конце тоже, хочу сказать.
— Да.
— Ага! — Она слегка улыбается. Билл бы сказал тут не «да», а «ага».
— Ага, — соглашается Джером.
— Джером, обнимешь меня?
Он так и делает.
— Впервые, когда я тебя встретила — когда мы нашли скрытую программу, которую Брейди закачал на компьютер моей двоюродной сестры Оливии Трелони, — я тебя боялась.
— Я знаю, — говорит Джером.
— Не потому, что ты черный…
— Черный — это клёво, — улыбается Джером. — По-моему, мы сразу пришли к согласию относительно этого.
— …а потому, что ты — чужой. Из внешнего мира. Я боялась всего и всех из внешнего мира. Я и сейчас опасаюсь, но не так, как тогда.
— Я знаю.
— Я его любила, — говорит Холли, глядя на хризантемы. Цветы на кусте ярким красно-оранжевым цветом сияют на фоне серой плиты с простой надписью: «Кермит Уильям Ходжес», а под надписью: «Конец смены». — Я так его любила!
— Ага, — признается Джером. — Я тоже.
Она смотрит на него пугливо и с надеждой — под седеющими прядями волос у нее почти детское лицо.
— А ты же всегда со мной будешь дружить?
— Всегда. — Он обнимает ее за хрупкие, аж страшно, плечи. За два последние месяца жизни Ходжеса эта женщина похудела на десять фунтов[74], которые ей вообще нельзя было терять. Джером понимает: маме и сестре не терпится откормить ее. — Всегда, Холли.