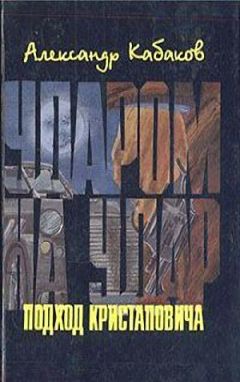— Ну, вы конспираторы, — засмеялся Кристапович. — Им и искать бы не пришлось, от дверей бы увидели, если бы стали смотреть.
— Да чего прятать-то было? — прокряхтел Колька, вытаскивая из неглубокого подпола докторский баул из сильно облупленного крашеного брезента. — От кого? Жженый бухгалтер притащит треть артельской выручки, которую они этим бандюгам сдавали…
— Рэкет, — про себя как бы сказал Мишка, но Колька услыхал.
— Чего?! — изумился он. Какой там к херам… не знаю, что ты бормочешь, а знаю, что сдавали эти инвалиды банде треть, чтобы жить спокойно. Два раза им кассу обчистили, мильтоны потыкались-потыкались, да и в сторону — мол, «черная кошка» действует, а против нее мы, дескать, пока не стоим… Ну, паленый бухгалтер и придумал — нашел этих, договорился, им треть — они больше артель и не трогают…
— Я понял уже, — сказал Мишка. — Лучше еще раз опиши, кто деньги забирал.
— Кто! — возмутился Колька. — Хрен в пальто, вот кто. Я ж тебе уже говорил: свои пять процентов Файка отмусолит, которые ей за передачу, за прямую связь и риск, а остальное на ночь под кровать, а утром — ни свет ни заря — тот заявляется, линдач, молча под кровать, молча в чемоданчик пересыпет, молча на выход…
— Прямо и тебя не опасался? — спросил Мишка.
— Один раз прямо из-под нас доставал, гнида, — засмеялся Колька, — я и слезть-то с нее не успел… Хотел ему по фотке приложить, да он с тебя, а то и подлиннее, и при пушке, так я думаю — перетерплю, не отвалится, а то ведь ухлопает…
— Точно его вспомни, весь портрет, — приказал Мишка, и Колька, рассовывая по карманам трудно сворачивающиеся пачки сотенных, извлеченные из баула, а не помещающиеся передавая Мишке, забубнил:
— Волосы черные, как приклеенные, гладкие, сзади — висят — ну, Тарзан, как положено — пиджак коричневый в клетку, плечи — во, на жопе разрез, дудочки зеленые, полботинки на белом каучуке… Ну, стиляга и все, что ты, в «Крокодиле» не видал их? Сверху не то макинтош, не то халат…
— Плащ, — поправил Кристапович. — А лицо, особенное что-нибудь есть в лице? Что ты все о шмотках, он же переодеться может.
Видимо, мысль о том, что у человека может быть не один костюм, не приходила ранее в голову Кольки. Он задумался, хлопнул несколько раз короткими белыми ресницами.
— Шрамов вроде нету… вот! Губы у него… ну… такие, — он попытался вывернуть свои, — как у Поля Робсона, понял?
— Понял, — сказал Мишка. Вроде бы такого парня он встречал в кафе, а может, и кажется… Они вышли, заперли дверь, Михаил послюнил бумажку, погрел ее снова фонариком, прилепил на место. Глянул на квадратную «доксу» — до Колькиного дежурства оставалось тридцать пять минут. Поехали к министерству на Басманной, метров за двести остановились.
— Ты все помнишь? — спросил Мишка.
— Все, — решительно ответил Колька. По дороге они успели взять шкалик, Колька окончательно поправился, загрыз чесночиной — и теперь сидел прямой, розовый, спокойный. Снова их блокгауз отбит, снова Мишка командует, и скоро они пойдут в избу, будут хлебать затируху, а то и щи, а потом Мишкина маманя будет дочитывать им про безумного Гаттераса… — Все помню. Среди дежурства звонок, быстро навожу хай, мол, у Файки беда, сама неизвестно где, звонил кто-то из соседей, делаю им психа, под шум сматываюсь в форме и с пугачом, в такси до Солянки, в подъезд, через черный ход в Подколокольный, опять в такси, до Бронной… Так?
— Так, — кивнул Кристапович. Молча и быстро переложили деньги в валявшуюся на полу между сиденьями Мишкину балетку. Мишка вздохнул, глядя, как выбирается из машины Колька, потянул его за рукав снова внутрь:
— Ну, уже не боишься?
Колька заржал как-то слишком весело:
— А когда я боялся? Я боюсь?! Мишаня, а тебя накатиком не заваливало? А ты в своей сраной разведке перед заградотрядом на мины ходил? А меня заваливало, понял, я ходил, понял?! Я ничего не боюсь, понял?! Мне на них…
Высвободил рукав, пошел, обернулся и крикнул на всю быстро темнеющую под осенним слезливым небом улицу:
— Не бздимо, перезимуем! — и скрылся за углом.
А Михаил переждал светофор, бросил папиросу в окно — и рванул на Сретенку, к себе. То есть, к Нинке.
Нинка лежала в постели, одеяло натянуто на голову, ноги торчат.
— С работы твоей звонили, — сказала она из-под одеяла, не меняя позы. — Судом грозили за прогул. Я сказала — заболел ты. Справку Дора Исааковна сделает… Пока ее с работы не погнали…
Михаил откинул одеяло. Нинка немедленно перевернулась на спину, прямо и светло посмотрела ему в глаза. Груди сплющились и развалились на стороны, запал живот — худа была Нинка, а для своих двадцати восьми и телом жидковата, курила много, валялась допоздна, налегала на «три семерки» и жирное печенье «птифур», вечно засорявшее колючими крошками постель, а шло все не в коня корм, ребра и ключицы торчали, а от дурной жизни только кожа повисала. И при этом — непонятная была в этой девке какая-то штука, от которой многие чумели, да и Михаил был ей подвержен… Как сказал однажды аккордеонист из колизеевского оркестра, много чего повидавший мужик, чудом уцелевший поляк из Львова: «Не то пшиемно, же пани хце запердоличь, а то, же хце завше…» Мишка понял не все слова, но со смыслом был вынужден согласиться…
— Потом, потом, Нина, потом, — тихо и серьезно сказал он, и Нинкины глаза сразу потемнели, ушла прозрачность. — Потом, милая, сейчас не до того. Ты бы оделась, а?.. Насчет справки — умница. Только бы Дора успела, а то доберутся и до этой несчастной убийцы в белом халате… Теперь вот что, нужен паспорт женский, молодой, лучше татарка. Сделает твой Яцек? Он же там через каких-то своих делал кому-то? Да не моя это баба, молчи, молчи, не моя, это дело, поняла?! Дальше: я весь день болею, лежу здесь. Соседям скажи — с желудком что-то, мол, не беспокойте его…
— Много они тебя беспокоят, — Нинка слушала внимательно, не удивляясь. Попеть пяток лет в «Колизее» — ко всему привыкнешь…
— Что бы ни случилось, — продолжал Михаил, — меня не ищи. Спросят да, бывал, больше не заходит, ничего не знаю. Но, надеюсь, — не спросят… Сейчас соседи дома?
— Нет никого, — Нинка уже сидела в постели, подтянув к груди нот, оглядывалась в поисках халата. Мишка отвернулся — она уж и вовсе отключилась вроде, о делах думает, а села все-таки так, что и грудь подтянулась, и что нужно — видно… Зараза…
В это же мгновение Мишка невесть каким слухом поймал — открывается в дальней дали необозримого коридора входная дверь, тихо идут… двое или трое… идут. «Умник, Мишка! — про себя крикнул Кристапович. — Умник, взял из машины бульдожку!» И уже повалил одуревшую сразу Нинку, взгромоздился сверху, потянул на спину одеяло до самого затылка, ноги поджал — так что вылезли наружу только Нинкины голые, и, поднимаясь и опускаясь под одеялом самым недвусмысленным образом, чтобы и от двери было видно, чем люди занимаются, прямо в лицо женщине раздельно выговорил: «Это за мной, не бойся, молчи…» Револьвер уже держал в левой, не слишком сильно упирающейся в простыню руке, правую приготовил к главному толчку.
Двое уже вошли в комнату, интеллигентного тембра насмешливый голос протянул по-малаховски:
— Приитнава апп-тита, Миш…
Тут же в шею, прямо в подзатылочную ямку уперся ствол — судя по ширине трубы, чуть ли не с водопроводную, «люгер» или «маузер». Прием под это дело шел классически, но кроме тех, кто в свое время достаточно почитал всякой ерунды, никто этой сыщицкой уловки не знал. Мишка как бы от ужаса чуть дернул головой, прижав затылок как можно крепче к стволу, на секунду как бы обмяк и — изо всех сил, уже почти ощущая входящую в мозги пулю, ударил головой назад, одновременно поворачивая ее резко влево, так что ствол сразу ушел в сторону, почти не почувствовав содранной металлом кожи, услышал стук упавшем и, судя по звуку, сразу уехавшего с прикроватного половичка под кровать пистолета, и без интервала, почти наугад, но все же успев увидеть и оценить главные расстояния — четыре пули подряд над их головами, и всей тяжестью американской офицерской бутсы, извернувшись, но продолжая опираться на кровать правой рукой — по зеленым дудочкам, под самую развилку, и коротеньким рыльцем бульдожки второму поперек переносицы, чтобы сразу кровь в глаза, и снова первого, уже поднявшегося, с поворотом спиной, каблуком чуть правее нижней пуговицы клетчатого коричневого пиджака, по затылку просто кулаком, и второго, ослепшего, кольцом рукоятки прямо сверху, по макушке, чуть сзади заходящего на лысину красно-пергаментного термитного ожога, по съехавшей мятой шапке, и прыжок к двери, и Нинке — «Одевайся, иди в коридор, если соседи придут — чтобы никто ни о чем!», и, пропустив обезумевшую, в немецком халате наизнанку, задравшемся выше задницы, успокоив дыхание им:
— За «приятного аппетита» — спасибо, но запомните: порядочные люди этим делом днем не занимаются. Теперь слушаю вас.