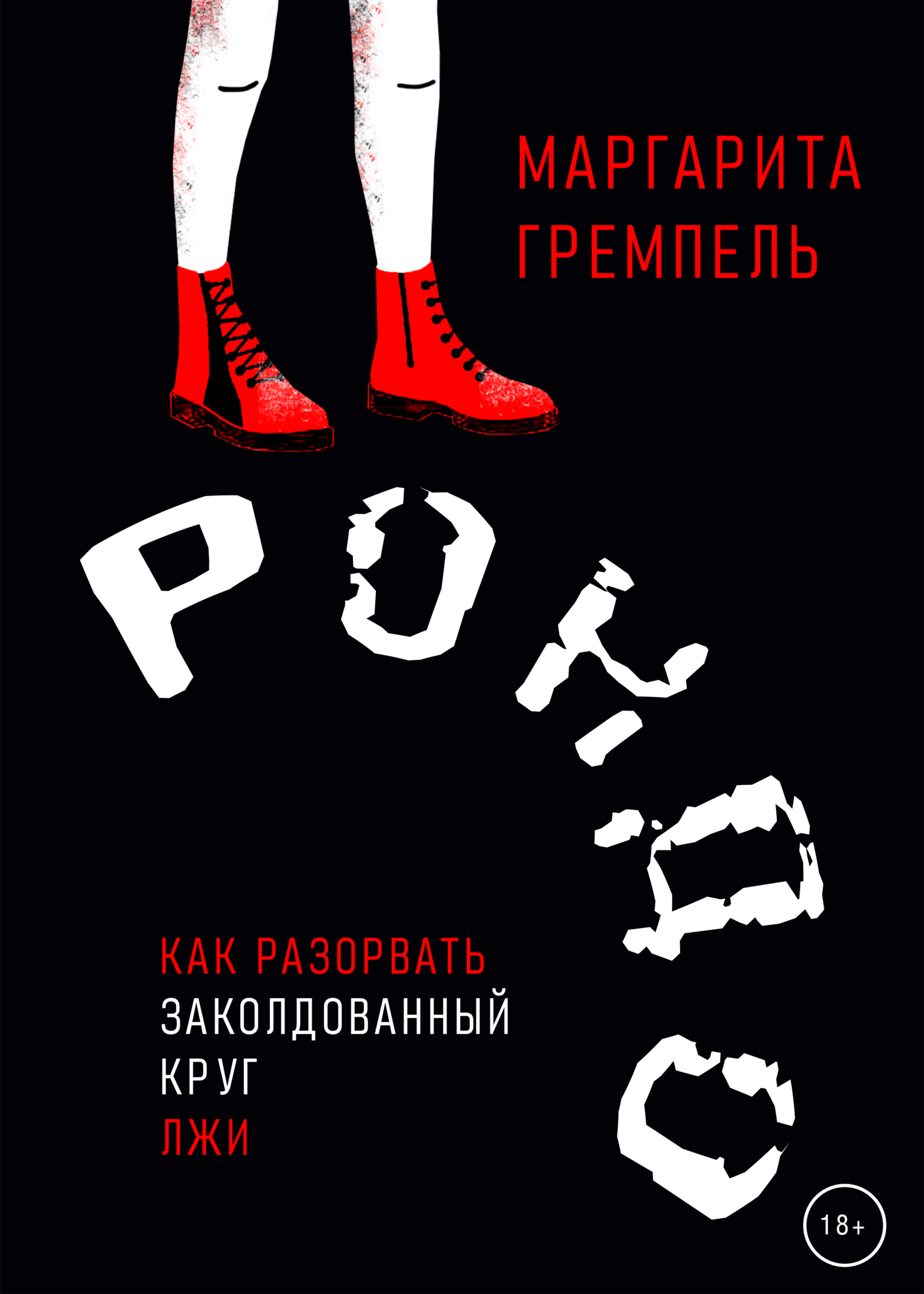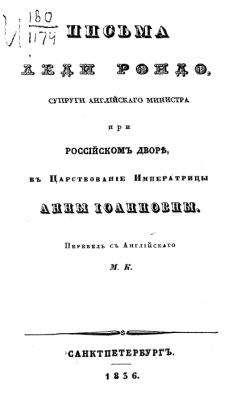ней уже знает и Маскаев. Но говорить и обсуждать ее с подзащитным Федорчук не мог, пока экспертизу не огласят в суде официально, и не доведут до сведения сторон.
– Они меня… Они меня… Они меня… – не решался что-то сказать Маскаев, тянул, как кота за хвост. Потом превозмогая стыд, и позор, и страшную обиду, он осмелился и закончил фразу: – …Они меня насиловали!
Адвокат подумал, что подсудимый стал заговариваться, и решил остановить его, и помочь вспомнить, что произошло с ним, а не то, что ему стало вдруг казаться.
– Да, Петр Федорович, вы должны помнить, что вас обвиняют в изнасиловании.
– Нет… нет… Они меня изнасиловали! А я никого не насиловал! Я не насиловал! – твердил подсудимый и его покрывал липкий холодный пот.
– Петр Федорович! Вы о чем сейчас? – тут адвокат растерялся. Сказать, что подзащитный стал похож на сумасшедшего, он не мог. Но слова у того пылали огнем и ненавистью. И было все по-настоящему, так искренне и правдиво, что перепутать их с ложью невозможно. Он сравнивал его со всеми подзащитными, которых у Лехи набралось бы за годы работы не один десяток, не два и не три, а больше, намного больше, и не находил оснований для недоверия.
– Я долго молчал, но теперь нет сил! Не могу больше! – он ударил кулаком по столу. – Я русский моряк! Я матрос! Я служил Родине! Я готов сделать заявление и все рассказать! Пишите! Пишите, Алексей Игоревич! – и он стал вытирать перед адвокатом стол, своим рукавом клетчатой рубашки, подразумевая, что на этом месте сейчас Леха все и напишет. Федорчук действительно вынул листы бумаги и приготовил сначала одну, потом вторую авторучку. – Там не было Сунина! Но это он! Он! Это его рук дело! Это он обещал мне условный срок за мое ложное признание! Это он хотел, чтобы так все было! Пишите! – и он порвал у себя на груди рубашку, где у него на теле стала видна татуировка портрета Сталина. – Я не жил при Сталине! И не захочу! Сунин – это гадкий «сталинист» в погонах!
Леха хотел его успокоить, чтобы вернуть и сохранить сейчас здравомыслие подсудимого. Адвокат понимал, что здесь могли оказаться всего лишь эмоции, когда грозит такой длительный срок наказания. Ведь ему могла привидеться или присниться история со своим изнасилованием. Поэтому адвокат и требовал от него сейчас спокойствия и тогда готов начать непростой разговор, и написать необходимые бумаги и обращение, в этом случае уже как от потерпевшего. Требовать от суда проведения дополнительной служебной проверки или расследования, пусть даже не в отношении Сунина. Федорчук понимал насколько все серьезно, такое обвинение в отношении любого следователя комитета. Дело по Маскаеву и так уже стало громким и скандальным, а тут еще и изнасилование обвиняемого. Алексей Игоревич слегка похлопал по плечу Петра Федоровича и проговорил:
– Ну, все, все, все, Петр Федорович! Надо успокаиваться! И рассказать, как это произошло! И вы должны понимать всю меру ответственности по столь серьезному обвинению! – адвоката мучило теперь сомнение ни о том, что расскажет подсудимый. Все то, что он собирается рассказать, может оказаться действительно правдой. Но как установить, подтвердить и доказать. Ведь Леха помнил уже подобное дело, что тоже уходило от Сунина в суд, и там звучало такое же обвинение в его адрес. Но потом оказалось пустыми хлопотами. С Сунина стекла грязь, как с гуся вода. А обвинения подсудимого в его адрес не нашли дальнейшего подтверждения. Теперь опять все зависело от того, что скажет Маскаев, и насколько его рассказ или признание станут иметь судебную перспективу. Но если не судебную, во что Леха верил плохо, то хотя бы, чтобы внутреннее расследование в комитете или проверка службы собственной безопасности смогла как-то отреагировать и нашла бы хоть какие-то аргументы, чтобы уволить со службы тех, кто мог все совершить. Так, в свое время, уволили Диму Степашкина за фальсификацию протокола осмотра места происшествия в Колышлейском районе, когда убили мальчика. Я уже вам рассказывал, дорогие читатели, о той истории. Вот о ней невольно вспомнил Леха, когда я не согласился с подделанной подписью. – Петр Федорович! Вы готовы подать письменное заявление?
– Да! Все письменно! Именно письменно, и никак иначе! – уже не говорил, а твердил подсудимый. Леха подумал, что вряд ли Маскаев лукавит, а если даже и так, ему все равно придется взять у доверителя письменное заявление и дать ему ход. Официально уведомить судью, прокуратуру, следственный комитет. Но знал он так же, кому еще хочет и может отдать заявление – в ФСБ.
Он понял, что теперь не сможет об этом умолчать, ведь подзащитный просит о помощи. А здесь он уже не только обвиняемый, но и потерпевший, если продолжать ему верить. А не верить, скорее всего, было уже нельзя. И это ужасный и вопиющий факт, если он найдет свое подтверждение. Ведь подсудимый обвиняет ни кого-нибудь, а самого Сунина, как организатора и вдохновителя столь чудовищного преступления. Сунин являлся пособником полковника Хомина и полковника Сестерова. Теперь адвокату оставалось, как можно подробнее опросить Маскаева и понять с его слов, могло ли все оказаться правдой или нет.
– Петр Федорович! Вы должны мне все подробно рассказать! – Леха подчеркнул и сделал ударение на слове «подробно».
– Тогда слушайте! – Маскаев распрямился, как бы понимая, что молчать уже нельзя. Ведь должно же существовать какое-то объяснение, как он оговорил себя и написал явку с повинной. Всему должны найтись серьезные причины, и они были, и он о них молчал. Сначала верил, как дурак, что Сунин ему поможет. Согласился как бы на условную меру наказания, только чтобы любым способом вырваться от изуверов и невольных и целенаправленных им пособников – жены и дочери – обвиняющих мужа в том, чего он не совершал. Потом ему казалось стыдно рассказывать, как его, здорового мужика, матроса, награжденного медалями и орденами, так могли сломать и унизить слуги безумия и произвола, слуги Дьявола. И он начал так: – Меня привезли из Пензы, из СИЗО. Когда привозили, то помещали в камеру для подследственных. Здесь, в РОВД, в Сердобске. У них мало места. Я в этой камере тоже сидел один. Ведь дел у них тоже немного. А тут подселили какого-то «шпиндика». И тот начал вокруг меня круги нарезать. Закурить предлагал. А я не курю. Даже водки, говорит он, могу организовать. А какая мне водка? Кусок хлеба в горло не лезет. Все думаю, ну ладно, жена меня не любит, пусть даже ненавидит. А дочери-то что за нужда такое придумывать.