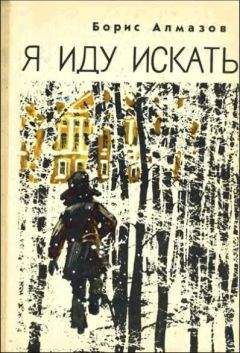Что было потом — невозможно рассказать в письме. Два месяца мы выходили из окружения. Я говорю «мы выходили». Не мы выходили, а меня выносили из окружения. Сначала вдвоём, а потом, когда Витя Мироненко погиб, меня нёс на спине Серёжа. Нёс по лесам триста километров…
Дорогие ребята! Уважаемые работники редакции! Ваша фотография всколыхнула в моей душе такое, чего я не могу описать. Одно скажу: Сергей Иванов — это настоящий, подлинный герой! Такой, как Матросов или Талалихин, найдите его, если он жив, расскажите о нём. Помните его, если он погиб… Таких людей забывать нельзя.
Всей душою с вами! Чем могу — помогу! Надумаете приехать в Москву — буду искренне рад. Меня легко найти вот по этим телефонам. Первый домашний, а второй — на кафедре, или вот ещё один, этот у меня в лаборатории, в институте.
С уважением
Григорий Тимофеевич Субботин».
Глава пятнадцатая
КАКОЙ ОН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ?
Ничегошеньки я не успел! Весь день так крутился, что даже с Васькой поговорить не смог. А после пятого урока по школьному радио сам Роберт Иванович объявляет: «Всем следопытам срочно собраться в кабинете директора». И голос такой торжественный, взволнованный. По всей школе следопыты каблуками застучали — на собрание понеслись. А когда я влетел в кабинет, у меня сердце в пятки ушло: за столом сидел Георгий Алексеевич… Сразу я понял, что для меня добром это не кончится. И не ошибся! Вообще, я очень чувствительный — всегда всё заранее предчувствую, и тут тоже…
— Ребята! — говорит Роберт Иванович. — На вашу публикацию пришёл ответ! Вот Георгий Алексеевич нам его прочитает.
Я стоял позади всех и, пока он читал, даже немножко забыл, что предчувствовал беду!
Шутка ли сказать! Сергей Иванов — этот, перевязанный который — вон, оказывается, какой! Ведь это только подумать — первый танковый таран! Всё равно как первый воздушный таран Талалихина или мёртвая петля Нестерова!
Письмо кончилось, все молчали, и тогда Роберт Иванович сказал:
— Ну-с, какие будут мнения? — И это даже как-то странно прозвучало. — Что думает председатель?
— Ого! — Георгий Алексеевич увидел меня и радостно мне подмигнул.
— Нужно обязательно либо Субботина к нам вызвать, либо самим в Москву ехать! — сказал я.
И все заорали! Закричали:
— Давайте в Москву! Мы никогда в Москве не были!
— А где деньги?
— Макулатуры наберём!
— Пусть он лучше приезжает! Пусть у нас живёт! У нас две комнаты!..
И вдруг дылда — его, оказывается, как ни странно, тоже Костей зовут, по прозвищу Петрович, потому что по фамилии Петриченко, — говорит:
— А может, он ошибается?
Ленка-Эмлемба так даже подскочила:
— Как ошибается? Он же узнал! Он же их узнал!
— Мироненко узнал, — говорит Петрович, и я чувствую, что сейчас произойдёт катастрофа, я ужасно предчувствительный… — Мироненко он узнал, это точно, но вот кто рядом с Мироненко? Демидова он никогда не видел, а этот средний, которого он принял за Иванова, так перевязан, что абсолютно ничего узнать невозможно…
Тут такое началось — я думал они все передерутся, но я чувствую: сейчас будет катастрофа! И вот она произошла!
— Ребятки! Граждане! — говорит Георгий Алексеевич и поднимается из-за стола. — Странный у вас спор получается. Фамилии людей на фото давно известны, и письмо Субботина их ещё раз подтверждает.
Тут сам Роберт Иванович брови домиком построил:
— Как известны?
— А вы что же… — говорит Георгий Алексеевич, и лицо у него делается таким, словно это отражение лица Роберта Ивановича. — Да как же?.. — И он смотрит на меня своими «траурными» глазами. Мне так хочется, чтобы это был сон… Чтобы зазвонил будильник, и я проснулся.
— Я хотел, чтобы все удивились… — только и могу прошептать я.
Хоть бы Георгий Алексеевич ушёл! Пусть что хотят со мной делают, только бы он ушёл!
— Ну, я побежал, — грустно говорит он, словно поняв мои мысли. — У меня, знаете ли, совещание… Письмо оставляю. Держите меня в курсе… — Бочком-бочком к двери и опять так печально на меня посмотрел.
— Я хотел сказать! — кричу я. — Я хотел сегодня всё сказать! Я ночью ещё решил всё сказать… — Но это мне только кажется, что я кричу, на самом деле я шепчу так тихо, что, наверное, никто и не слышит, хотя все в кабинете молчат и смотрят на меня так, будто я кобра или гремучая змея и сейчас на них брошусь…
— Давай рассказывай! — говорит директор, когда за Георгием Алексеевичем закрывается дверь.
Я рассказываю, как смотрел газеты и как вот уже почти что месяц знаю, что на снимке Мироненко, Иванов и Демидов…
И все молчат. А у Роберта Ивановича на скулах пляшут красные пятна.
— Как ты мог! — говорит он. — Как ты мог!
И карандаши из деревянного стаканчика, что стоит у него на столе, сами собой вдруг выскакивают и с треском рассыпаются по полу. Они катятся, и никто их не подбирает.
— В чём сила красных следопытов? Почему нам по плечу поиск, который иногда не в состоянии вести Исторический музей? — спрашивает директор и сам себе отвечает: — Потому что мы — коллектив! Потому, что сотрудник музея может написать одно письмо, проверить пять адресов, познакомиться с десятью людьми и на большее у него нет физических возможностей! У него только одна голова, пара ног и рук. А мы — коллектив! Мы, чуть что, моментально побежали, разузнали, написали, ознакомились… Потому что нас много и мы все заодно! Потому что мы — единомышленники, потому что у нас тысяча рук, тысяча ног и сто голов…
Он очень торжественно говорил, и, может быть, поэтому я вдруг сосчитал, что, если у нас сто голов и тысяча рук, значит, у каждой головы — десять рук и десять ног! И у меня, наверное на нервной почве, началась истерика, потому что я засмеялся…
Если бы я не засмеялся, всё, может быть, и кончилось бы по-другому. Но тут все как начали орать, и больше всех — этот Петрович!
— Это что же, — кричит, — получается! Это вся работа насмарку! Если мы всё делать будем в одиночку, какой от нас толк? И ещё он смеётся!
— Он смеётся потому, что нас презирает! — девчонка какая-то высунулась, я её никогда и не видел раньше. — Ходит, как гусь, ни на кого не смотрит!
— Обнаглел! Думает, отличник, так ему всё можно! Думает, председатель, так ему всё дозволено!
— Переизбрать! Исключить!
И чего орут? Конечно, скрыл важный факт, но им-то что за дело? У них же другие темы поиска! Уж если я кого и подвёл, так это только Ленку Пантелееву. Я поискал её глазами и — лучше бы не искал. Она сидела в уголочке, и лицо у неё было такое — словно мне на её глазах зубы дёргали! Уж лучше бы она разозлилась! Глазищи свои голубые распахнула на полкабинета и глядит, как прожекторами светит.
— Исключить! Исключить! Давайте голосовать… Кто за? — орут.
Все — руки вверх! Некоторые даже кулаками грозятся.
— Единогласно! — Петрович кричит.
Тут уж и сам Роберт Иванович растерялся.
— Нет, — говорит, — может, есть кто против? Кто против?
И выползает над пионерскими галстуками, над всеми макушками, над бантами и испачканными чернилами лбами тоненькая Эмлембина ручонка… Я никогда не думал, что она такая тоненькая. И в ней платочек засморканный.
— Я против!..
— Ладно! — говорю я скорей, чтобы мне эту ручонку не видеть. — Исключить так исключить…
— Позвольте, позвольте… — говорит Роберт Иванович. — Я тоже не совсем согласен с вашим мнением…
— Да ладно! — говорю. — Что теперь говорить, Роберт Иваныч, они правильно все решают. Какой я председатель? Никакой я не председатель… И в следопыты я случайно попал! Так что выключайте меня из списков…
— Не выключайте, а исключайте, — поправляет директор, — но погоди… Я, товарищи, тоже против исключения.
— Не! — говорю я. — Исключайте…
Взял портфель и пошёл домой.
— Вот какой! — кричит девчонка вслед. — Хоть бы прощения попросил!
И тут все опять как заорут…
Я в приёмную вышел и вспомнил, что про Форген-Моргена ничего не рассказал, хотел было обратно повернуть, да поздно, чего уж теперь…
Глава шестнадцатая
«ОНА! ТА САМАЯ!»
Васька, конечно, всех моих дел не знал. Сидел на уроках — белыми ресницами хлопал. А три раза в неделю выплывал во двор с трубой, как первый паровоз братьев Черепановых, — шёл в свой оркестр гудеть.
Когда я ему предложил по математике заниматься, он сразу согласился. Хоть бы для приличия удивление изобразил или там благодарность — нет, как будто так и надо, явился ко мне, и я стал ему формулы в голову вдалбливать — это оказалось мучением!
У Васьки мозги устроены совсем не так, как у нормальных людей, — он никогда о чём-нибудь одном подумать не может, он сразу обо всём думает. Ему втолковываешь-втолковываешь, он умными глазами смотрит — вроде понимает, а потом как ляпнет: