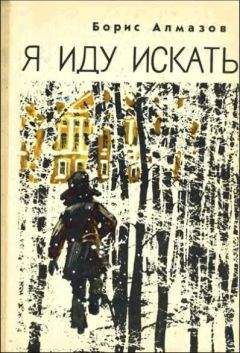«У него все погибли», — вспомнил я слова бабы Сони.
— Ну и что с этой девочкой? — спросил я, чтобы отвлечь его от воспоминаний.
— Она сказала, что в её дом тоже попал снаряд и фотография вот эта погибла, она ей очень дорога…
— Ну как? — спросила Мария Степановна, входя.
— Спасибо! — сказал я. — Ефим Макарыч всё прекрасно помнит и всё мне рассказал.
— Вы мне тогда, если не трудно, сообщите: как там с Ивановым? И привет ему от меня большой! — пожимая трясущимися руками мою кисть, приговаривал Форген-Морген. — Вы обязательно…
— Конечно, конечно… — кивал я.
— Действительно, — сказала мне вдруг совсем другим, нестрогим голосом Мария Степановна, проводив меня до крыльца, — сообщите нам… Они все ждать будут… У нас ведь тут ничего не происходит…
Парк был пуст. По расчищенной дорожке важно ходила ворона, напоминая только что гулявших здесь стариков. Я оглянулся и увидел Ефима Макаровича, прижавшегося к стеклу окна. Я махнул ему рукой, и он затрепетал, замахал худыми, старческими руками.
Глава четырнадцатая
ПУСТЬ ХОТЬ КАКИЕ БУДУТ!
Человек не может не спать всю ночь напролёт! Так доктор по телевизору говорил в передаче про сон. Человеку только кажется, что он глаз не закрывал, а на самом деле он спит, только очень тревожно. Это и есть бессонница, так что теперь можно меня поздравить! У меня бессонница началась!
Вечером, как из дома инвалидов и престарелых вернулся, — никак уснуть не мог! Всё ворочаюсь, кручусь — словно в мой матрац булыжников напихали.
Мне показалось, что Ага меня зовёт. Жалобно так. Издалека. Я в нашей квартире стараюсь по ночам в коридор или в столовую не входить. Специально от вечернего чая отказываюсь, чтобы в темноте не шастать, но тут со мной что-то сделалось: не зажигая света, без тапочек, в одной пижаме я выскочил за дверь, наткнулся на стол, что у нас посреди столовой стоит, здорово треснулся, только тут в себя пришёл и понял, что окончательно проснулся.
Ага так в своей комнате храпела, словно там у неё за дубовой дверью буфет с посудой двигали. Начинает так тоненько: тю, тию, тию, — а потом как трактор: грым-быр-дыр — и дальше как морской прибой: шрах-ха-ха-х… Симфония, а не храп. Тут не то что собственное имя, а стихотворение Маяковского или опера «Иван Сусанин» почудится.
Но мне было хорошо стоять и слушать, как она храпит.
Но сразу же я подумал, что постоянно над Агой смеюсь! Как я с ней ругаюсь и даже иногда специально её довожу, бывает, что до слёз!
— Ну и что! — сказал я шёпотом, потому что почувствовал, что ужасно покраснел. — Ну и что! Я же всё равно её люблю! Если с ней что-нибудь случится, я, наверное, умру от горя. Пусть она хоть какая старенькая станет, пусть даже ходить не сможет и нужно будет её с ложечки кормить, я её всё равно ни в какую больницу и ни в какой дом инвалидов не отдам!
«А вдруг? — подумал я. — Со мной что-нибудь случится? Ведь у тех старичков, что я в ДИПе видел, тоже дети были, а теперь нет никого. «Здесь ничего не происходит».
И я представил, как моя толстенькая Агочка идёт с палочкой по дорожкам парка, где скрипит снег и кружат над деревьями вороны, а меня нет на свете, и мне стало так грустно, что я вдруг заплакал.
Слёзы текли у меня по щекам и даже по шее.
«Вот я вырасту, а мои папа и мама совсем состарятся, и потом они умрут, и я останусь совсем один… как те старички. Конечно, я женюсь, и у меня будут дети. Может, я даже на Скворцовой женюсь и у нас будет много детей — двое или трое! Но вдруг они будут такие, как я?»
У меня даже спина замёрзла от страха! Ведь я нашей Аге ничего, ничего не рассказываю! Вон она как обрадовалась, когда Эмлемба её в кино пригласила. Ведь у моей бедной Агочки были родители и был муж Коля, которого убили на войне! А теперь остался только я! Но я плохой!
И от этого слёзы потекли у меня ещё сильнее! И я решил, что с завтрашнего дня начну совершенно другую жизнь! Я буду всем помогать! Буду ходить для Аги в магазин и даже мыть посуду и буду помогать отстающим в классе и даже начну заниматься с Васькой по математике.
И мне было хорошо стоять и мечтать о том, каким я буду завтра!
— Это что за номера! — Из двери дедовой комнаты ослепило светом и в нос ударил запах махорки, паяльной канифоли, и сам дед предстал передо мною на пороге. — Что ты здесь делаешь?
— В туалет иду! — огрызнулся я.
— Давай туда и марш обратно! — скомандовал он. — Третий час ночи, он по квартире разгуливает!
Вот ведь какой вредный! Дождался, пока я пошёл обратно, в мою комнату вошёл, посмотрел, как я в постель забрался, ещё на пороге постоял — всё, наверное, не знал, к чему бы придраться, но я лежал идеально: на правом боку, глаза закрыты, руки на одеяле!
— Ну давай спи! — сказал дед. — Третий час ночи.
Но вот когда он закрыл за собой дверь, я удивился: «Ого! Третий час ночи, а дед во всём одетый! Значит, ещё не ложился! И канифолью из его комнаты несло! Он что же, до трёх часов ночи там работает? Интересно, что он может там делать?»
Мне очень захотелось встать и посмотреть в замочную скважину, но потом я подумал, что от деда можно всего ожидать — не исключено, что он стоит за дверью (либо моей, либо своей), чтобы, когда я буду к замочной скважине пристраиваться, трахнуть меня по лбу в воспитательных целях! Может, сейчас затаился и ждёт! Но я выше этого, пусть ждёт — не дождётся!
Я стал опять думать о том, как с завтрашнего дня начну новую жизнь, но уже такие хорошие мысли, как в столовой, мне в голову не шли. Вечно дед всё испортит!
Но всё-таки я твёрдо решил: и в классе, и в кружке стать совсем другим человеком. Особенно в кружке! Завтра же приду на занятие и скажу, что мне имена тех, что на фотографии, известны! Вот, мол, я нашёл — берите, пользуйтесь — теперь давайте все вместе дальше искать!
«ДОРОГИЕ КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ!
Совершенно случайно увидел фотографию в газете, которую вы опубликовали. Вы не представляете, что значит для меня этот снимок и что значат в моей судьбе люди, которые там сфотографированы.
В октябре 1941 года я попал на фронт. В одном из первых же боёв был ранен в обе ноги. Эшелон, в котором нас эвакуировали, попал под прямой огонь немецких танков. Они расстреливали нас в упор, несмотря на то что поезд был санитарный, с красными крестами на вагонах.
Четыре фашистских танка стали около насыпи и били прямой наводкой. Командиры танков стояли на башнях не укрываясь, потому что мы ничего не могли им сделать. По всему полю ползли, бежали, падали раненые, и они стреляли на выбор… Я не мог бежать и только отполз недалеко и смотрел на весь этот ад.
Танки развернулись и пошли через железнодорожное полотно, давя бегущих. И тут случилось чудо. Передний танк вспыхнул, как свеча, взорвался, как взрываются керосиновые лампы. И тут же со второго слетела башня.
Мы не успели ничего сообразить, как увидели: вдоль нашего горящего эшелона не мчится — летит наш советский БТ. Откуда он появился? Я не знаю. Почему-то больше он не стрелял. Немецкие танки попятились, загораживаясь беспорядочной стрельбой. А он летел прямо на них. Буквально метрах в ста пятидесяти от меня он нагнал третий немецкий танк и ударил его в бок. Оба танка вспыхнули. В немецком что-то рвануло, и меня оглушило взрывом.
Очнулся я ночью. Меня вынесли танкисты — те, что на вашем снимке. Один из них — Витя Мироненко. Он слева, а в центре — Серёжа Иванов. Третий человек на снимке, наверно, Демидов. Они говорили о нём. Серёжа мне рассказывал потом: все трое они были из Ленинграда, из одной школы, учились в одном классе и в тридцать девятом году все трое вместе пошли в танковое училище. Вместе были на Халхин-Голе, вместе начали войну под Минском. Участвовали в контрударе и отводили три повреждённых танка в ремонт, когда наткнулись на наш эшелон. В трёх танках у них было всего девять снарядов, причём один танк был без орудия… И всё-таки они приняли бой.
Дорогие красные следопыты!
Я своими глазами видел таран! Это, наверное, был первый таран в Великой Отечественной войне! Его совершил лейтенант Сергей Иванов (отчества не знаю). Я уверен, что среди спасшихся раненых были люди, которые писали и докладывали об этом подвиге. Спасли танкисты тогда человек четыреста, а может, и больше!
Сергей Иванов на неисправном танке вступил в неравный бой с превосходящими силами противника и уничтожил три вражеских машины, причём одну из них — тараном!
В этом бою погиб Демидов. Погибли два механика-водителя. Экипажи были не полные. Мироненко был ранен и вытащил из горящего танка контуженного Иванова. Тут же они обнаружили меня, оттащили в ближайший лес.
Что было потом — невозможно рассказать в письме. Два месяца мы выходили из окружения. Я говорю «мы выходили». Не мы выходили, а меня выносили из окружения. Сначала вдвоём, а потом, когда Витя Мироненко погиб, меня нёс на спине Серёжа. Нёс по лесам триста километров…