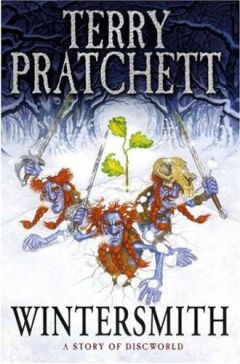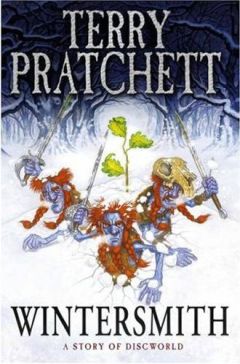Зойка нерешительно поглядывала то на Королёва, то на Андрея Андреевича. Директор детдома чуть снисходительно, но вполне по-доброму улыбнулся ей. Он определенно нравился Зойке: такой красивый, интеллигентный.
– Немного пообвыкнешь, учебный год закончишь, я тебя пионервожатой сделаю, – пообещал Андрей Андреевич.
– Соглашайся, – сказал Королёв и, видя, что Зойка колеблется, спросил: – Ты когда-нибудь видела, какие глаза у сирот?
– Глаза? – переспросила Зойка. – Нет, не видела.
– Вот пойди и посмотри, тогда сама от них не уйдёшь.
– Как надумаешь, так и приходи, – предложил Андрей Андреевич и не спеша пошёл через площадь.
Королёв поспешно скрылся за дверью, а Зойка всё стояла на крыльце и думала: «Ну какие могут быть глаза у сирот? Как у всех» Но слова секретаря почему-то беспокоили её. Что он хотел сказать? Плачут они всё время, что ли? Так с ними и с ума сойти недолго. Нет, уж лучше в театре билетики отрывать.
Зойка успокоилась надолго. Ни к кому не приставала, не просилась ни на фронт, ни на завод. Прилежно училась, деловито отрывала контрольки от билетов, а в «шефский час» ходила с подругами в госпиталь.
В конце мая стало совсем тепло. Раненые, их подопечные, выздоравливали, и от этого в палате как будто посветлело. На койке Азика лежал таджик средних лет, который всё время путал русские слова и первый же над собой смеялся.
Петя готовился к выписке. Ему выдали его старенькое, поистрепавшееся обмундирование. Он с тоской смотрел на потёртые брюки и говорил:
– Да у нас на флоте юнги в лучших ходят. Меня ж братишки засмеют.
– А мы их перелицуем, – неожиданно предложила Зойка. – У меня мама шьёт.
Брюки перешивали всей семьёй: бабушка и Зойка распарывали швы, Юрка вдевал нитки в иголки, мать смётывала, а потом строчила на машинке. Юрка не выдержал, уснул, а женщины возились до утра. Зато брюки выглядели почти как новые. Увидев их, Петя просиял:
– Спасибо, сестрёнка, спасибо тебе.
– Это всё мама, – отвечала Зойка, – у неё руки золотые.
– Я вас, девчонки, никогда не забуду, – растроганно говорил Петя и при этом смотрел на Таню, которая, пытаясь скрыть смущение, старательно натирала тряпочкой спинку кровати Тараса Григорьевича.
Раненый долго молчал, прислушиваясь к разговору и шарканью тряпки над головой, потом поманил Таню пальцем и позвал:
– Дочка!
Таня наклонилась. Тарас Григорьевич был уже совсем здоров, но встать не мог, так как ему отрезали обе ноги, по его выражению, «под корень».
– Видишь, как оно бывает, дочка, – начал издалека Тарас Григорьевич. – И у Петрухи були ноги побитые, а вот встал. Теперь хоть на танцы… Ты, дочка, под койку глянь: там мои ботинки стоят. Мне их перед тем боем как раз выдали. Они новые зовсим, ни пулей, ни осколком не зацепило. На шута они мне теперь? Отдай своему моряку.
Ботинки действительно оказались почти новыми и вполне годились на Петины ноги.
– Тарас Григорьевич, – чуть не плача, примеряя их, говорил Петя. – Тарас Григорьевич, не забуду…
Голос у Пети срывался, а Тарас Григорьевич прикрыл лицо рукой.
Близились экзамены. Подготовка к ним, госпиталь, работа в театре… У Зойки почти совсем не было свободного времени, и всё же с Лёней виделись каждый вечер – он приходил к театру, чтобы проводить её домой. В те полчаса, что уходили на дорогу, они успевали о многом поговорить. Зойка чаще всего рассказывала о госпитале, Лёня выискивал у знакомых редкие книги и пересказывал что-нибудь интересное, захватывающее, от чего у Зойки глаза становились, «как блюдца» – широкие, удивлённые, и они оба весело смеялись.
Как-то в воскресенье Лёня прибежал рано утром. Солнце ещё не взошло, но розовый горизонт с каждой минутой становился всё ярче и светлее. Зойка спала, когда Лёня стукнул в окно у её кровати. Она испуганно прислонилась к стеклу, но увидела его улыбающееся лицо и тоже заулыбалась, толкнула приоткрытую форточку.
– Вставай скорее! – сказал Лёня. – Пойдём слушать жаворонков!
– Куда? – не поняла Зойка.
– В степь! Жаворонков слушать!
Зойка мигом накинула платье и выскочила на улицу. Они весело перекликались, стараясь обогнать друг друга, и чистый весенний воздух обдавал их приятной свежестью.
Боже мой! Какая степь! И почему это Зойка никогда не бегала сюда ранним утром? Сразу за городом расстилалась пёстрая равнина. Среди зеленого раздолья тянулись к свету тюльпаны, как разноцветные фонарики: розовые, жёлтые, сиреневые… А дальше – ярко-красные лохмачи.
– Ой, как здесь хорошо! – Зойка остановилась, потрясённая тем, что видела сейчас вокруг себя. – Как здесь хорошо!
– Подожди! – остановил её Лёня. – Слушай!
Зойка умолкла и прислушалась. Сначала она ничего не слышала, кроме шелеста ветерка в траве и цветах.
– Ну, где же они? – нетерпеливо спросила она Лёню.
– Сейчас, сейчас. Ты слушай.
Зойка смотрела, как быстро и мощно поднималось над степью солнце, и ждала. И вдруг где-то высоко-высоко, стремительно поднимаясь и обгоняя восходящее солнце, раздалась песня жаворонков. Зойке казалось, будто кто-то брал полные горсти хрустальных шариков и бросал их на серебряный лист, и они катились, катились, наполняя всё вокруг чудесным переливом.
– Как они поют! – восторженно прошептала Зойка.
– Правда, очень торжественно? – спросил Лёня.
Зойка некоторое время молча смотрела в небо, и Лёня видел, как радость постепенно сходит с её лица.
– Послушай, разве можно поверить, что сейчас где-то стреляют, падают и умирают люди? – неожиданно спросила Зойка.
Лёня в первую минуту не нашёл слов и молча смотрел на неё.
– Это невозможно, – сказала Зойка, – невозможно. Нельзя убивать, когда поют жаворонки!
– Убивать вообще нельзя, – тихо отозвался Лёня. – Но война… На войне всегда убивают.
– Ну почему? Зачем? А вдруг вот сейчас, когда пели жаворонки, убили моего отца? Это ужасно, ужасно… Зачем люди убивают друг друга, зачем?
Зойка вдруг заметалась. Лёня обхватил её за плечи и, гладя по голове, стал уговаривать, как маленькую:
– Успокойся, успокойся, всё будет хорошо. Успокойся.
Они словно не чувствовали, что оказались в такой близости. Никогда прежде он не смел обнять её. И теперь, прижимая к себе мечущуюся Зойку, касаясь губами затылка, шепча утешительные слова, Лёня так бережно и осторожно обнимал её, что у него от напряжения занемели руки. Но ни развести их, ни пошевелиться он не мог. Ему казалось: расслабься он на несколько секунд – и из его рук выскользнет это бесконечно дорогое существо, выскользнет и разобьется, как редкостный драгоценный сосуд. И только когда Зойка успокоилась, Лёня, всё ещё боясь шевельнуться, тихо сказал:
– Пора возвращаться.
Именно в эти секунды Зойка отчётливо осознала, что он и есть тот самый, единственный, что её судьба теперь неотделима от судьбы Лёни. Она испытывала к нему бесконечное доверие, какое испытываешь к близкому, родному человеку. Зойка вдруг подумала, что Лёню скоро могут забрать в армию, даже наверняка заберут – ведь он несколько раз ходил в военкомат, просился на фронт.
– Ты вчера был в военкомате? – спросила она тревожно.
Лёня опустил голову.
– Ты почему молчишь? – спросила Зойка, отдвигаясь от него, чтобы лучше видеть его лицо. – Уходишь на фронт? Когда?
– Скоро, Зоя, – просто сказал Лёня. – Я не хотел говорить тебе раньше времени.
– Ско-ро, – похолодевшими губами прошептала Зойка.
– Я не могу иначе. Место каждого порядочного человека сейчас на фронте, – сказал Лёня и, выразительно глянув на Зойку, добавил: – Кроме женщин и детей, конечно.
Зойка, которая сама ещё совсем недавно хотела на фронт, вдруг надломилась от мысли, что её Лёня скоро будет далеко от неё, там, где стреляют и могут убить. Может случиться так, что она его никогда, никогда больше не увидит, не услышит его голоса, не придёт с ним сюда слушать жаворонков. И почти не осознавая, что говорит, Зойка прошептала:
– А как же… жаворонки?
– Жаворонки? – переспросил Лёня.
– Да, жаворонки.
– Я вернусь, и мы снова пойдём с тобой слушать жаворонков.
Голова у Зойка наконец просветлела. Она поняла, что не должна передавать свою тревогу Лёне: уж если ему суждено уйти на фронт, пусть уйдет спокойным. С нарочитой мечтательностью она сказала:
– И мы обязательно придём сюда ночью. Представляешь, кругом темно-темно и тихо. И вот поднимается огромная луна. Краси-и-вая! И вдруг – жаворонки!
– Глупенькая, – ласково засмеялся Лёня. – Жаворонки ночью не поют.
Зойка тоже засмеялась, пытаясь заглушить всё нарастающее беспокойство.
Чем ближе подходила Зойка к дому, тем сильнее становилось ощущение тревоги. Она с трудом улавливала, о чём говорит Лёня, потому что всё время думала об одном: он скоро уйдёт на фронт. Туда, где стреляют. Гибнут. Или становятся калеками. Её мучил страх при мысли об этом, и она невольно схватила Лёню за руку, как будто хотела удержать его, не пустить туда, где так опасно. Он повернулся к ней, успокаивающе улыбнулся. Зойка тоже попыталась улыбнуться, но губы у неё дрожали, и она отвернулась.