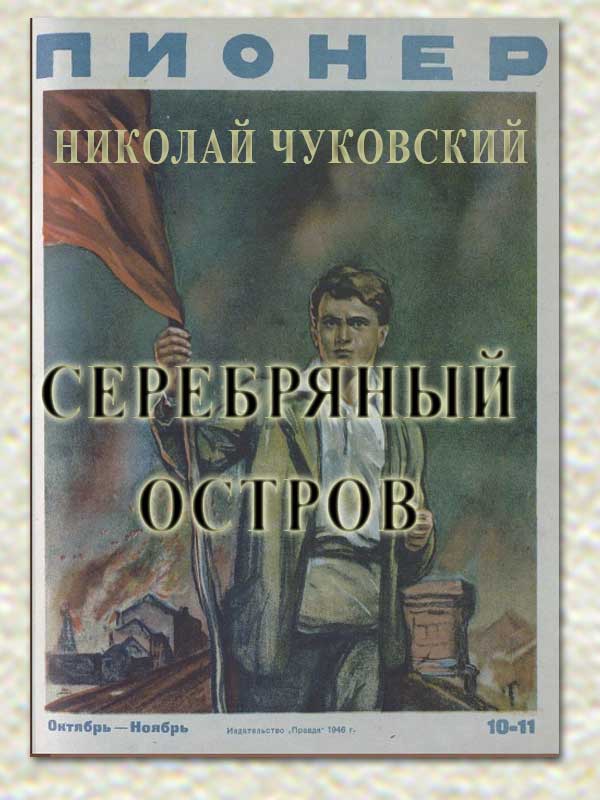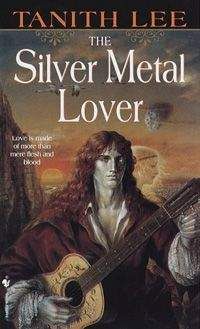что всё время оккупации прожила в деревне у тётки, а теперь будет снова работать здесь, в школе, — преподавать арифметику. Впрочем, об этом она писала уже в своём письме. Зато мама, шлёпая босыми маленькими ногами по мутной воде, говорила много и оживлённо. Она была возбуждена возвращением домой и всё не могла успокоиться.
Агата тоже была взволнована, но, занятая чем-то своим, видимо, только притворялась, что слушает. Когда мама смеялась, смеялась и она, но Коле казалось, что она даже не совсем понимает, над чем смеётся. И только один раз она прислушалась к маминым словам, — когда мама сказала, как они здесь в городе, на вокзале, встретили нищего с обезображенным лицом и девочку.
— Как, они снова тут?! — воскликнула Агата. — Жалко, что я их не видала. Мне непременно надо их повидать!
— Зачем тебе их видеть? — спросила мама.
— Я хочу отнять у него девочку.
Она с жаром заговорила о том, что нельзя оставлять ребёнка у человека, живущего попрошайничеством, что девочке надо учиться, что вид у неё голодный и замученный.
— Он держит её за руку и никогда не отпускает, — говорила Агата. — Я по глазам её вижу, что она убежала бы, если бы он её отпустил!
Агата замолчала, но видно было, что она сказала не всё, что у неё был ещё какой-то довод, почему надо отнять девочку у нищего, и, быть может, самый важный. Помолчав, она выговорила:
— Эта девочка спасла человека.
— Кого? — спросила мама.
— Ты его не знаешь… Нашего нового завуча…
Она осеклась и с тревогой посмотрела на маму.
Дело в том, что колин папа был до войны заведующим учебной частью в той самой школе, где теперь служила Агата. И Агата боялась, что упоминание о новом человеке, который теперь занимает его должность, может огорчить маму. Но опять только мгновенная лёгкая тень мелькнула в маминых глазах и сразу исчезла. Мама спросила:
— Как же эта девочка могла спасти его?
И Агата рассказала удивительную историю. Здание школы разрушено бомбою и теперь восстанавливается. Всеми строительными работами руководит новый завуч, которого зовут Виталий Макарыч. Возле школы большая яма с негашёной известью. Попасть в эту яму — вернейшая смерть. Яму обнесли дощатым забором и, чтобы забор был виден в темноте, выкрасили его белой краской. И вот на прошлой неделе ночью кто-то разобрал этот забор. Виталий Макарыч вышел из школы и, не видя забора, обычно белевшего в темноте, направился прямо к яме. Он уже занёс ногу над ямой и непременно рухнул бы в известь, как вдруг услышал за собой пронзительный детский крик. Он замер на месте, и это его спасло. Через мгновенье он уже разглядел яму. Тогда он побежал на крик и в темноте наткнулся на нищего с девочкой. Девочка крикнула, чтобы предупредить его…
— А кто разобрал забор? — спросила мама.
— Не знаю, — сказала Агата, — Может быть, кому-нибудь понадобился на дрова.
Помолчала и прибавила:
— Я возьму эту девочку себе.
Тем временем мама всё вымыла. Перенесли кушетку, нашли в коридоре кухонный столик и поставили на то место, где прежде стоял папин письменный стол. Мама открыла корзину и вынула оттуда коврик.
Этот коврик Коля знал с тех пор, как себя помнил. Он висел когда-то на стенке в этой самой комнате. На нём вышиты были белки: одна глядит вправо, другая — влево, третья — опять вправо, четвёртая — влево и так дальше. Этих чередующихся белок Коля, когда учился говорить, прозвал почему-то «вери и мери». Так коврик этот до сих пор мама и Коля называли «вери-мери».
За время войны они часто переезжали с места на место, жили во многих чужих домах, и всюду мама прежде всего вешала на стенку «вери-мери». И в чужой, непривычной комнате сразу появлялось что-то родное. Этот коврик был как бы частицей их дома, всюду следовавшей за ними.
Теперь «вери-мери» повесили над кушеткой, на то самое место, где они висели когда-то.
Стол накрыли клеёнкой и придвинули к нему самую большую корзину — вместо стула. День кончился, уже темнело. Взорванная немцами электростанция ещё не работала, и Агата принесла коптилочку — аптечную склянку с фитильком. Коптилку поставили на стол, на то место, где когда-то стояла папина лампа, и на фитильке вспыхнул огонёк, словно жёлтая капля. И едва вспыхнул огонёк, на стенах зашевелились тени — мамина и агатина — совсем так, как до войны.
И вдруг Коля вспомнил, как он лежал вот в этом углу на кровати и огромная папина тень, слегка качающаяся, чернела на стене, задевая головой потолок. Сейчас этой тени не было и никогда уже не будет.
Слёзы подступили к колиным глазам. Но он справился с ними. Он никогда не плакал при маме.
— Мама, я пойду погулять, — сказал он.
Ему не хотелось, чтобы мама поняла, о ком он думает.
IV
С тех пор как из штаба партизанских отрядов пришла бумажка, в которой сообщалось, что папа погиб, мама и Коля никогда о нём не говорили. В первые дни гибель его казалась такой страшной, что они просто не могли выговорить ни одного слова, относящегося к нему. А потом это вошло в обычай, образовалась как бы преграда, которую ни он, ни она никогда не переступали. Они щадили друг друга.
Но им и не надо было говорить о нём. Коля безошибочно угадывал по маминому лицу, когда она думала о папе. Она думала о папе почти всегда. Она ничем не выдавала