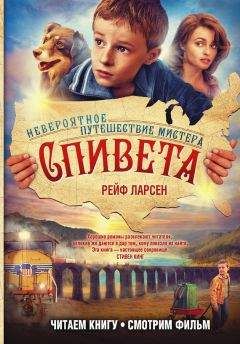Интересно, почему наш мозг порождает такие нелогичные ассоциации? Никто никогда не говорил мне «Эмма Остервилль – прабабушка доктора Клэр», но мне смутно казалось, что это так – просто по ассоциации. Подозреваю, дети особенно склонны к таким вот иррациональным умопостроениям: когда кругом так много неизвестного, они не столько цепляются за детали, сколько стараются создать рабочую карту мира.
Блокнот ЭОЭ. Украден из кабинета доктора Клэр
Начав читать блокнот доктора Клэр, я осознал, до чего же на самом деле индивидуален каждый почерк. Я никогда не воспринимал доктора Клэр отдельно от ее манеры писать: эта вот характерная «Э» всегда казалась мне ее неотъемлемой частью. Теперь, сидя в поезде вдали от маминого кабинета, я понял: мамин почерк – не врожденное свойство, а результат прожитой жизни. Эти знакомые движения запястья отшлифованы тысячью различных обстоятельств: учителями, детскими стихами, проваленными научными изысканиями, возможно даже – любовными письмами. (Писала ли моя мама когда-нибудь любовные письма?) Интересно, что бы сказал эксперт-графолог про мамин почерк? А про мой?
Читая это красочное описание родов, я вдруг понял: как Эмма появилась от Элизабет, так сам я появился из доктора Клэр. Чудновато как-то. Как сформулируешь таким образом, очень непривычно звучит. Она не просто старшая женщина, живущая в том же доме, что и я, а мой создатель.
«Как истово он собирал все, что выбрасывает море».
Сам не замечая, что делаю, я начал набрасывать на полях блокнота маленькие иллюстрации. Знаю, знаю – нельзя портить чужие вещи! Но я просто не мог удержаться.
Мизинец у отца, большой палец у Грегора – неужели у всех по-настоящему крепких мужчин есть своя ахиллесова пята? Как супергерои, они могут сохранить силу, лишь лелея тайную слабость…
А у меня есть своя ахиллесова пята? Ну да, конечно, я не так уж и силен. Может, у меня все тело – моя ахиллесова пята, поэтому-то отец и глядит на меня с таким выражением (AU‑2, AU‑17, AU‑22).
И тут я увидел – на полях мама приписала:
«Эти два томика так странно смотрелись рядом со справочниками по таксономии, атласами и трудами по геологии, что и без того скептически настроенные коллеги Эммы частенько отпускали шутки по поводу изначального владельца двух “Гулливеров“».
Ох, как мне понравилось! Я даже задумался, не раздобыть ли мне самому два экземпляра этой книги и не поиграть ли одним с Очхориком, чтоб сымитировать эффект, произведенный морем. Но тут вспомнил, что движусь сейчас отнюдь не в сторону дома или Очхорика. Внезапно на меня накатила тоска по причудливому узору полок на стенках моей спальни, по старым, утащенным из сарая доскам, сгибающимся под тяжестью блокнотов. Полки на стенах – глубоко личная штука, вроде отпечатков пальцев.
Рис. 1. Из раскраски Лейтона
Рис. 2. Из моей раскраски
Да! Раскраска с первым Днем благодарения и первопоселенцами! Наша сводная тетя Доретта несколько лет назад подарила нам с Лейтоном по такой раскраске. Оба мы так и не использовали их должным образом: Лейтон залезал за контуры, а я вместо раскрашивания подписал всякие измерения и асимптоты. Интересно, может, Эмма под столом тоже пририсовывала асимптоты? Нет, этого требовать было бы уже чересчур. Мы с ней – два разных человека, не один и тот же.
Еще одно примечание на полях:
Маленькая незаконная радость – не надо никаких доказательств.
В обычных обстоятельствах я не меньший фанат твердых доказательств, чем любой другой, но при виде этой маминой приписочки ощутил восхитительный трепет опасности…
«Да-да, мама, – подумал я. – Конечно, не переживай из-за этого гнусного карлика по имени Доказательство. Доказательство, затормозившее твою карьеру и обрекшее тебя двадцать лет прозябать в топях неопределенности».
– Ко всем чертям доказательства! – завопил я во все горло, но тут же устыдился. Мой возглас тяжко повис в пустом салоне «виннебаго».
– Прости, – сказал я Валеро. Он не ответил. Держу пари, Валеро тоже не верил в доказательства.
Походка идущего мимо мужчины, чуть приволакивающего ногу.
Я тоже всегда подмечаю такие вот вещи – особенно прихрамывание, пришепетывание и косящий взгляд.
Очень ли это плохо с моей стороны? Отец всегда говорит: таращиться на людей с физическими изъянами, которыми наградил их Господь – ужасно невежливо. Но, может, склонность все замечать, а потом изо всех сил стараться «не таращиться» – тоже своего рода изъян? Очень ли было некрасиво с моей стороны сперва уставиться во все глаза на хромого старика, а потом торопливо отводить взор? Видит Бог, в чем-нибудь таком я уж точно виновен.
– Он картограф, Валеро! – воскликнул я.
Валеро не ответил.
– И пират! – обратился я к Рыжебородому.
Тишина.
Ну и ладно, ничего, что мои друзья не хотят говорить. Я нашел исток реки.
В этом месте на полях мама нарисовала какие-то закорючки.
Просто каракули – несколько перекрывающихся окружностей, скорее всего, без всякого смысла, – однако была своеобразная красота в том, как рассеянно выводит загогулины на полях страницы перо, пока ум бурлит и клокочет, пребывая в каких-то дальних далях. Такие вот каракули – плодородная почва: зримое свидетельство напряженной работы мысли. Хотя оно и не всегда так: Рикки Лепардо постоянно рисует каракули, а мыслителем его никак не назовешь.
«Центральный лепесток не похож на остальные».
Доктор Йорн мне точно так же объяснял – про точно тот же цветок. У него в спальне в Бозмене висел рисунок бражника.
Очередная пометка на полях:
Позвонить Терри.
Терри? Почему это имя звучит так знакомо?
– Терренс Йорн. – Мистер Джибсен по телефону произнес то же уменьшительное имя. Когда взрослые называют друг друга по именам, мне всегда кажется, будто они разговаривают каким-то кодом, относящимся к миру, где взрослые люди делают всякие взрослые вещи, которых я не понимаю.
Засушенные бабочки трепетали, одна за другой исчезая в глубине шкафчика.
Я узнал, узнал эту коллекцию бабочек! У доктора Клэр есть точно такая же. Учитывая, что мама уже писала, как мало у нее реальных фактов, прямо-таки интересно, что в этой истории случилось взаправду, а что просто украдено из нашей жизни? Первые мои инстинкты – инстинкты ученого-эмпирика – требовали строго держаться того, что поддается проверке, но чем дальше я читал, тем меньше об этом думал.
Движение на восток, лицом на запад. Из блокнота З101
Отец громко сказал эту фразу нам с Лейтоном, когда мы проходили мимо Джонни Джонсона, шагающего по Фронтейдж-роуд с удочками на плече. Джонни владел захудалой хибаркой дальше по долине. Сдается мне, он являл собой худший образец того, что может сделать с человеком сельский образ жизни – расист, совершенно необразованный и остро нуждающийся в услугах зубного врача. И когда мы поравнялись с ним, я с ужасом подумал, что Провидение едва не сделало меня его сыном. Что, если бы аист из поговорки выронил бы меня на полмили раньше, прямо в объятия Джонни Джонсона, у которого все задом-наперед? Что, если…
А потом, совершенно неожиданно, Джонни вдруг появился на похоронах Лейтона вместе с женой и сестрой. Такой совершенно простой добрососедский жест – так мило с его стороны. Ну и конечно, всякий раз, как я его с тех пор видел, то терзался угрызениями совести, что осуждал его. Хотя, оглядываясь назад, понимаю, что удивляться-то, в сущности, нечему: чаще всего люди оказываются совершенно не такими, какими ты поначалу их считаешь.
Карта дороги до церкви в Биг-Хоуле, нарисованная Джонни Джонсоном – судя по всему, для сестры. Найдена на ее скамье в церкви после похорон Лейтона. Из обувной коробки № 4.
Когда отец в знак приветствия, переборщив, слишком сильно толкнул меня ладонью в плечо, я отлетел на фут назад, потому что из-за различия в массе (отец весит добрых 190 фунтов, а я только-только 73) мой импульс изменился сильнее. Я тоже, конечно, оказал на отца воздействие, но просто не настолько заметное. Ровно так же – при столкновении школьного автобуса с белкой; и автобус, и белка подействовали друг на друга с равной силой, но благодаря огромной разнице в массе ускорение, полученное белкой, оказалось для нее летальным.