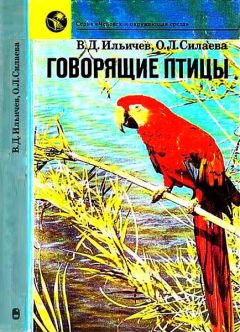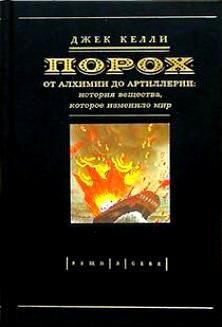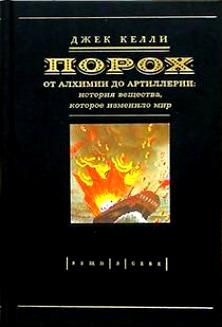Весело и просто на солнце глядеть: знай только голову поворачивай.
Но однажды перелески растерялись. Солнце поднялось за облаками. И днём его было не видно. И вечером садилось за тучу. В какую сторону голову поворачивать?
Растерянно смотрят золотые зрачки из-под белых ресниц. Головки повёрнуты в разные стороны. Смотрят, смотрят, а солнца и нет!
Согнулись слабые шейки. Поникли белые венчики. Глаза уставились в землю.
Неохота вылезать из-под тёплого одеяла!
За окном сырая весенняя ночь. Без того знобит, а тут натягивай ещё скользкие сапоги, задубелую куртку.
— Ну куда тебя несёт? — возмущается во мне нытик. — В чёрное лесное болото! Под сапогами будет булькать вода, засопит и зачмокает хлябь, в глаза будут тыкаться сучья...
А бодрячок хорохорится:
— Подумаешь — хлябь, первый раз, что ли? А вдруг что-нибудь и увидишь!
— Ну что ты увидишь? — канючит нытик. — Всю весну месишь грязь; всё уже видано-перевидано! Всё расписано по минутам. В два пятьдесят заблеет бекас, в три часа прилетят косачи, через тридцать минут они запоют. В пять десять пролетит над током ворона, в пять тридцать прилетят на болото чайки. Хоть часы проверяй!
— А вдруг? — сопротивляется бодрячок.
— Что «вдруг», что «вдруг»? — сердится нытик. — «Вдруг» только в книжках бывает. А вот ноги будут в засидке мёрзнуть — чай, воды по колено. Спина замлеет, пальцы перестанут сгибаться. И уж это не вдруг, а наверняка!
— Всё так, — вздыхает бодрячок. — И руки, и ноги, и пальцы. И замлеет спина. И чайки прилетят в половине шестого. Пошли!
Я выхожу за дверь и долго стою, приглядываясь к темноте. Но вот сдвигается туча и показывается луна. И сразу земля отделилась от неба — можно идти. Я шагаю мимо деревни. Моросит, грязь под ногами мнётся, как упругий пластилин. Луна поочерёдно вспыхивает в окнах домов: будто в них кто-то зажигает и сразу же гасит свет.
Я иду по болоту, и лунный свет теперь уже вспыхивает и гаснет в лужах. Всё — как говорил нытик: и тень, и холод, и хлябь.
Бодрячок хрипло дышит. Потом толкает меня под ШАПКУ и прячет нос в воротник.
Два часа пятьдесят минут. Над головой заблеял бекас.
Три часа. Короткое «па-па-па!» — и рядом уселся косач.
Три часа двадцать пять минут. Слышится странное бульканье, будто воду льют из бутылки. Это косач заворковал.
Нытик зевает:
— Я что говорил?
И вдруг...
Бодрячок кричит прямо в ухо:
— Ты только послушай, ты такого ещё не слыхал!
— Тише, тише, — успокаиваю я его. — Может, тебе показалось?
Но я уже знаю: не показалось! Слышатся звуки, которых я ещё не слыхал. Я слушаю и пишу: «3 часа 30 минут. На чёрном болоте незнакомые звуки — будто быстро лопаются пузыри».
Как и положено, ровно в пять десять над током пролетела ворона. Ровно в пять тридцать появились и чайки. Но нытик уже не ехидничает.
Вода на болоте золотая от солнца. Кочки в ней — как чёрные камни. И чуть не на каждой кочке — белый флажок! Непонятные белые треугольники, непонятные тихие звуки.
Белые точки то появляются, то исчезают. Так умеют подмигивать солнечные зайчики. Но это не «зайчики», это чибисы. Первый раз в жизни я вижу чибисиные танцы!
Бодрячок хватает нытика за воротник:
— Будешь, будешь скулить? Говорил я тебе «а вдруг»? То-то, Фома неверный!
На каждой кочке — пара. До чего ж они хороши! Зелёные крылья и спинки, снежно-белые грудки и красные ножки, блестящие от росы и солнца.
Он поклонится ей, клювом сорвёт травинку и отбросит её вправо. Она сейчас же — ответный поклон, тоже сорвёт травинку, но отбросит влево. Поклон и травинка, поклон и травинка. Наверно, на счастье бросают: по всему видно, что будет у них тут гнездо.
«У-у, ку-ку-ку-ку! У-у, ку-ку-ку-ку!» — начинает петь кавалер, а сам клонится грудкой в мох, сложенные крылья ставит торчком, хвостик задирает вверх и трясёт им, как белым платочком.
Чибисы ждали этого дня. Хорош бы я был, если б его пропустил! Никогда б не узнал, что этот пернатый народец так занятно танцует на кочках болота.
Я тычу нытика носом в мох. Потому что новое не узнать — это хуже, чем старое позабыть. Подумаешь, старое! Оно всем известно.
Не зря певчих птиц певчими назвали. Знали, что делали. Вот жаворонок хотя бы: там, где он, сам воздух поёт! Каждая струйка ветра пропитана песней. Кружит над полем, кружит — и всё поёт да поёт.
Певчие птицы поют старательно, серьёзно, самозабвенно. Песня для них не шутка. Песней они утверждают себя. «Что могут сказать о тебе другие, если сам ты о себе ничего не можешь сказать?» Вот птицы и говорят о себе песней. «Я пою — значит, я тут, я весел, я существую!»
«Я пою значит, я занял место под солнцем, нашёл уголок для гнезда, значит, я не бездомный бродяга!»
«Я пою, я жду, — прилетай!»
Это просто и ясно, но всё это надо повторять и повторять.
И они повторяют. Зяблик в рассветный час может спеть 300 песен. Натощак: не пьёт и не ест! А потом, подкрепившись жучком или мухой, споёт до вечера ещё песенок тысячи две с половиной.
Пуще зяблика заливается лесной конёк: от зари до зари успевает спеть песен три тысячи восемьсот! И не охрипнет, и горлышко не прополощет. И так всё лето поёт.
Тысячи тысяч песен гремят по лесам. Тысячи тысяч в полях. Над болотом, над лугом, в степи.
Ночью в лесу слышен самый слабый звук. Слышно, как упадёт хвоинка. Как скребёт под корою жук. Как пробежит землеройка — зверь ростом с... пчелу!
Но вот звук незнакомый и громкий послышался с вырубки: резкая трелька из двух букв — «з» и «р»: «3-ррррр! 3-рррр!»
Иду осторожно, отгибая от лица колючие ветки. На вырубке светло от луны. Стоит засохшее дерево. В дереве чёрное пятно дупла. Незнакомая песенка-трель льётся из дупла, как ручеёк.
Быстро вспоминаю ночных певцов: козодой, сверчок, кузнечик? Нет, всё не то. Тихо подхожу к дереву и скребу его пальцами. Для жителей дупел тихое царапанье страшнее самых громких ударов. Уж им-то известно, что настоящий враг с барабанным боем по лесу не ходит!
Сейчас же стрекотание умолкает — и из дупла выпархивает... летучая мышь!
Потом я ушёл от дупла, и трели послышались снова. Долго пела летучая мышь. Я слушал её с удовольствием. Лету конец, птицы умолкли давно, и в безмолвии ночи радуешься любому живому голосу. Да и песенка совсем не плоха, хоть и вся-то она из двух букв.
Глухая зимняя ночь. Тёмные проспекты, как широкие лесные просеки. Над просекой зелёная луна-светофор. Безлюдно и тихо. И вот в этот тихий час на улицы города выходят звери...
Ночью их трудно увидеть. Прошуршит снежок, промелькнёт неясная тень — только-то и всего. И лишь следы на свежем снежке говорят о том, что глаз и ухо не обманули тебя.
Следы зверей можно снять только на рассвете, пока их не затоптали ещё ноги пешеходов, не закатали колёса машин. Вот посмотрите. Чей это след? Снял я его на аллее парка. Зверь не малый: длина следа четверть метра. Догадались? Правильно, лось, самый большой зверь наших лесов. Сейчас их много стало в окрестных лесах, и они нередко заходят на улицы города.
Рыщет у сараев и складов ловкий и дерзкий зверёк горностай. В город его привлекли мыши и крысы. В тех же местах можно встретить ласку или хорька.
А тут через сквер пробежала лисица. Лисий след в городе редкость. Может, собаки загнали её на окраину, а потом она заблудилась на улицах. Для зверей ведь город — что для нас с вами лес тёмный.
Бывает, убегают звери из зоопарка или из живых уголков. Тогда можно повстречать и совсем удивительные следы: волка, енота, песца. В большом парке можно встретить след белки, а то и зайца.
А однажды на окраине города увидел я отпечатки больших круглых лап рыси. След её очень похож на кошачий, только кошка-то эта с собаку! Голод пригнал её к жилью. Думала поживиться на задворках курицей, кошкой или маленькой собачонкой. Вот и петляла по огородам, вдоль заборов, от сарая к сараю.
Зима для зверей — нелёгкое время. Потому-то и ищут они у жилья укрытия или поживы. И как только опустится ночь, звери выходят на улицы города.
Танец «косачок» отплясывают косачи на току. В танце шесть главных фигур: «огляды», «вертуши», «подскоки с хлопушами», «подскоки с повертушами», «наскоки» и «побегуши».
Всё происходит так. Ещё в темноте слетаются на ток косачи. В темноте и петь начинают. Но общее оживление у них на восходе. Покажется красное солнце, и каждый осмотрится: кто тут ещё на току? Ага — на каждой кочке по косачу! А слева? А справа? А позади? Других посмотрим, себя покажем. Это и есть первая фигура танца — «огляды».