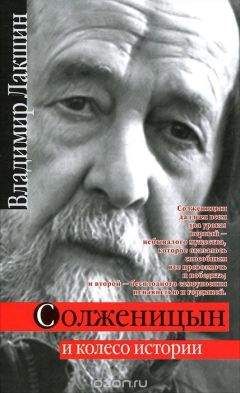вухэтажный, с низкой крышей дом, бывшая школа — двенадцать окон по фасаду и крыльцо посерёдке, — стоял, отделённый от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где чёрные прутики замёрзшей акации.
Дом был стар, некрасив, но ещё прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом — перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, — да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками, изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, печи переложить — верно, не один годок постоит.
Дом ещё помнил, как совсем недавно краснощёкие ребятишки тянулись сюда по утрам с портфелями и домодельными сумками для тетрадей, а на большой перемене высыпали на крыльцо в треухах с болтающимися завязками и, хохоча, толкали друг друга в снег.
Теперь дом стоял присмиревший, онемевший, потерявший голос, хотя временами по-прежнему с улицы было слышно, как где-то далеко звенит звонок. Но никто не выскакивал на крыльцо в распахнутой шубейке, не бросался в сугробы, не швырялся снежками. Лишь мелькали порой за двойными стёклами рукава белых рубах да глухо доносился ребячий гомон.
— Эваковыренные из Москвы, — объясняла сторожиха любопытствующим. — Детишек привезли, без родителей, цельных два автобуса. Больные — не ходют…
Одеяло сползло и свесилось углом с кровати. Ганшин потянулся во сне поправить его рукой — и проснулся.
Сквозь полуоткрытую дверь из коридора падал рыжий отсвет керосиновой лампы, стоявшей на столике у дежурной, а зимние утренние окна уже синели — видно, и до звонка недолго.
Ганшин подёрнулся зябко, попробовал повернуться на бок и сморщился от знакомой, ноющей боли. Тут он вспомнил, что всю ночь сквозь сон слышал эту боль, но не решался проснуться. Снилось ему что-то хорошее, с чем расстаться не хотелось, но что? Да, Москва снилась, Сокольники, санаторий на Пятом Лучевом. И они с Игорем на верхней большой террасе пускают бумажных голубей и смотрят за барьер, как они, снижаясь кругами, садятся на траву. Откуда-то мама в накинутом на плечи белом халате (как её пустили?) склонилась над его постелью, помогла подняться и повела по барьеру, держа за руку. Он балансирует, как канатоходец, но что-то пугает его, и он летит вниз, плавно раскинув руки, и опускается на лужайку с одуванчиками. Там, у цоколя дома, разбитое подвальное окно. Грязный, мокрый кот прыгает туда, и он за ним, во тьму, где мерцает соблазнительная куча металлолома — спутанная проволока, маслянистые шестерни, пружины, рессоры… Он тянет к ним руку. «Сева, не бери!» — кричит за спиной мама, и он просыпается.
Жалко, интересный был сон — запутался, рассыпался и кончился… А нога ноет.
За два года Ганшин привык засыпать на спине, в гипсовой кроватке, туго зашнурованный фиксатором. Ещё полагались ему подножники, вытяжение на больную ногу, а под колено здоровой — песочник. Ночью, засыпая, он всякий раз невольно пытался повернуться по-домашнему на бок. Гипсовая кроватка, когда-то новая, аккуратно прожелатиненная, ровно обрезанная с краёв и державшая форму, поизносилась в переездах — с автобуса в эшелон, из эшелона на полуторку, — раскачалась на сгибах. Крошки сухого гипса сыпались сквозь многослойный бинт, и было лежать теперь в ней просторнее. А всё же панцирь.
Но сейчас, шевельнув ногой, Ганшин ощутил непривычную свободу. Подножники не жали, не тянул перекинутый через катушку на блоке мешочек с песком. «У! Да мы вчера вставали», — вспомнил вдруг Ганшин и испугался…
С вечера седьмая палата не могла уснуть. Говорили о лунатиках. Костя лично знал одного лунатика, и по его словам выходило, что тот выглядел в точности как другие люди и долго сам ничего не понимал о себе. А его видели, как он вылезал из окна и ходил по крыше в полнолуние. Когда лунатик идёт по карнизу, его, как известно, нельзя пугать. Только окликни — и ухнет вниз.
Вася Жабин первый решил проверить: не лунатик ли он? Едва шаги ночной дежурной замерли в коридоре, он отвязался в темноте, покачиваясь, встал на койке, завёрнутый в простыню, как белое привидение, и просипел что-то дурным голосом. Но закружилась голова, и он с шумом повалился на одеяло. Ребята заржали. Больше лунатиков не находилось.
— А Севке — слабо, — едва переведя дыхание, сказал Жаба.
— Он паинька, — поддержал Жабу Костя Митрохин.
Вот уж паинькой, рохлей или тихоней, что одно и то же, Севка Ганшин никогда не был. Ещё про его друга, Игоря Поливанова, можно так сказать. А Ганшин вечно нарушает режим, вечно за что-то наказан. Едва его в санаторий привезли, учительница Изабелла Витальевна склонилась над ним: «Ах, какой славненький чёрненький мальчик…» — а он хвать её за нос. С тех пор никто не сомневается, что он отчаянный. И Костя просто так сказал, чтобы поддразнить его. Но с Костей не считаться нельзя. Ему недавно исполнилось одиннадцать, и в палате его уважают как самого умного и старшего.
По правде говоря, Ганшину вовсе не хотелось вставать. И не в том дело, что вставать глупо, — ещё накроют, а в санатории нет большей вины, чем эта. Но нога последние дни побаливать стала, обострение нажить можно. Только вслух этого не скажешь: хуже нет признаться, что трусишь старших, — засмеют, задразнят. А нога… Что нога? Болезнью считалось что-то чрезвычайное, ну, горло болит или понос, а так все принимали друг друга как бы здоровыми. «Э, была не была», — и Ганшин дёрнул завязки фиксатора.
Он вытянул ноги из подножников, перевалился за гипсовую кроватку и коснулся босыми пятками холодного щелистого пола. Чувствуя слабость в коленях и головокружение, он сделал первый неверный шажок. Тут Жабе почудилось, что кто-то идёт по коридору, и он хриплым шёпотом выдохнул: «Атанда». Шмыгнув к постели, Ганшин забился под одеяло с головой и лежал с бухающим сердцем.
Но тревога вышла ложная.
Поболтали ещё немного, и Костя решил спать.
— Спэк, рёбушки.
— Спэк-бэк.
— Спэк, Жаба.
— Спэк, Игорь.
Каждый, по обыкновению, желал доброй ночи остальным. Мало-помалу палата успокоилась и заснула…
Теперь же, вспомнив о вчерашнем, Ганшин почувствовал, как что-то тоскливое, тошнотное завозилось у него внутри. Нога ныла сильнее прежнего, и ещё предстояло отвечать за сорванное вытяжение и подножники.
— Игорь, ты спишь? — окликнул он Поливанова.
— Не-а.
— Слушай, помоги фиксатор привязать бантиками, как Евга делает, а то прицепится.
Просыпались и на других койках. За окном светлело. Игорь придвинул свою кровать на колесиках вплотную к Ганшину и сопел, привязывая тесёмки к боковой раме. Но опоздал, конечно.
В дальнем конце коридора сначала едва слышно, потом громче и громче зазвенел звонок, и дружный весёлый вопль покатился по нижним палатам. Няня шла от дежурки, теребя медный колокольчик, а следом нёсся многоголосый рёв: «А-а-а-а…» Кричали давно проснувшиеся и уже ждавшие звонка, а к ним присоединялись по дороге те, кто только ещё просыпался и тёр кулаками глаза: «А-а-а-а…» Это как свободный вздох после сонной тишины, как приветствие утру. И пусть тёмен зимний рассвет, пусть война и эвакуация и неведомо где отец с матерью, пусть скудная еда, холод и болезнь, а всё же новый день, с вечной надеждой на хорошее.
Да и то сказать, хуже, чем первые дни, когда они лежали в школе под Вейском, пожалуй, уж не будет. Матрацы стелили на полу, и есть было нечего, кроме хлеба с кипяточком. А тут переложили на койки, стали кормить три раза в день, появился звонок — с утра и на мёртвый час. А скоро обещали и школьные занятия начать, и так уж с этой войной три месяца пропустили.
Ганшин не успел как следует подвязаться, да и Игорь второпях ему лишних узлов напутал, а в палату, погромыхивая жестяными утками и суднами, уже шла тётя Настя. Низенькая, широкая, в грязноватом халате, она остановилась на пороге, чуть расставив ноги, по нескольку уток в каждой руке — и как она их не роняет? — и задорно, нараспев прокричала:
— Эй вы, сонные тетери, а-а-атворяйте брату двери!
Ганшин улыбнулся знакомому присловью. «Да мы не спим». И в самом деле, все проснулись, даже Гришка Фесенко вылез из-под одеяла — сонный, хмурый. Его круглое лицо с чёрной щёткой волос над низким лбом выражало досаду: доспать не дадут. Он лежал старательно подоткнувшись, чтоб не дуло от балконной двери. Сквозь плохо вымытые двойные стёкла, прихваченные по углам изморозью, падал на его кровать скудный свет зимнего утра, и Гришка ещё долго крутил стриженой головой, стряхивая ночную дремоту.
А тётя Настя уже сновала между кроватями и каждому бросала задорное, весёлое словечко: