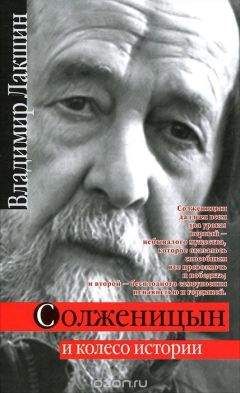Ганшин слушает молча, будто не про себя. Чу-у-дно. И Мария Яковлевна казалась ему другой. В санатории все её боялись — сёстры, няньки, по ниточке ходили, хотя ни разу ни на кого она голос не повысила, говорила также ровно, чуть в нос. Она была вершиной пирамиды прочно устроенного, надёжного мира взрослых, где всё было наперёд обдумано и предусмотрено и никаким дурным случайностям уже не оставалось места…
— Ещё чаю, Сева?
Мария Яковлевна сидит напротив, в лиловой кофте под вороток, и Ганшин, слушая её, почти механически кивает.
— Да, война… — повторяет Мария Яковлевна, подливая кипятку в заварной чайник. — Сейчас забыли, как тогда было. На Алтае нам старую школу выделили. Отопление печное, кухня в полутора километрах, рентген в двух, всё неприспособлено, грязно, а тут морозы начались. Ашот Григорьевич, кирицкий директор, — я тогда на должность главврача перешла — в Барнаул уехал связываться с местной властью, пайки выхлопатывать. А я одна осталась. Кормить вас нечем. Бывало, сидишь с поварихой — голову ломаешь, из чего сто порций на ужин сделать. Потом пойдёшь в госпиталь к начмеду, выпросишь десяток тыкв — на тыквенную кашу. После уже с совхозом договор заключили: выделили нам на три месяца пшена и сала немного, а остальное — вертись как знаешь. Персонала нет, няни не обучены простейшим гигиеническим правилам. И учить некому — сёстры от усталости с ног валятся. Набрали молодых, из деревни, да ведь пока обучатся! Но люди, согласись, Сева, были с нами замечательные. Евгению Францевну помнишь? Образцовая ортопедическая сестра. Всю себя отдавала детям. А из педагогов кто?
— Изабелла Витальевна, — подсказывает Ганшин.
— Да, Изабелла, — соглашается Мария Яковлевна. — Она ведь совсем девочка была, только-только перед войной институт кончила. Озорная, легкомысленная. Как-то вечером, помню, после звонка, истории вам рассказывала, испугалась ночной сестры и под кровать залезла, разбирали потом на пятиминутке, — без тени улыбки, всё так же в нос говорит Мария Яковлевна.
Она вообще не улыбается.
«Какая же Изабелла молодая? — думает про себя Ганшин. — Конечно, не старая, но пожилая была, с седой прядкой, горбилась заметно. Правда, хорошая, смелая, всё время острила, нравилась ребятам. Но разве же ей едва за двадцать было?»
— А какие ребята с тобой лежали отличные — Игорь, и Гриша Фесенко, — продолжает Мария Яковлевна. — А Костю помнишь?
Ганшин молчит. Ещё бы он не помнил Коську!
— Такой серьёзный, развитой мальчик, он, кажется, был у вас атаман?
— Да, — отвечает Ганшин, помедлив. — Там многое чего было.
Он помешивает ложечкой чай и видит, как Мария Яковлевна напряглась, забеспокоилась.
— Помню, помню, вы, кажется, собирались в горы бежать. Но ты же не станешь отрицать, что в палате был в целом хороший, здоровый детский коллектив? Как вы помогали фронту! Грабли к сенокосу делали, девочки кисеты вышивали для бойцов. Это, кажется, ваша палата отличилась сборами на танк? Нас Сталин благодарил телеграммой — теперь вот рассказываю, не верят… Да, все мы жили одним.
Чай остыл. Торт, который Мария Яковлевна незаметно подложила ему, раскрошился на блюдечке. Ганшин засиделся в одной позе и теперь с трудом, опираясь на подлокотники, поднимается из поглотившего его кресла.
Ему хочется проститься с ней как-то особенно, сказать что-то важное, может быть, обнять. Но она опережает его — первая строго подаёт сухонькую руку, высунувшуюся из широкого лилового рукава. Он прощается, и дверь хлопает за ним.
Похоже, что он никогда уже не вернётся сюда.
1983–1984
Художники В. Басков, Н. Филиппов