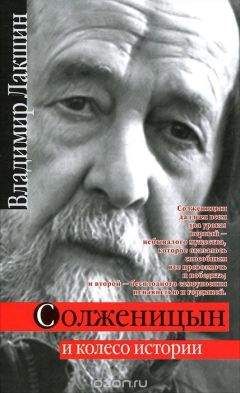— Ты, гляди, ровнее нашего робёнка-то вези, — звонко прокричала шофёру тётя Настя. — Притормаживай, где колдобины. А то я тебя знаю, устроишь тут гонку Осовиахим…
Полулёжа на мешках, Ганшин приподнялся и выглянул за борт. Сквозь разрывы в кустах акаций он увидел вдруг сразу весь, как на картинке, серый двухэтажный прямоугольник санатория с крохотными балкончиками по фасаду и покатым спуском у крыльца. А где-то внизу, у земли, ровный ряд одинаковых кроватей.
Шофёр дал газ, полуторка дёрнулась и медленно пошла, тяжело переваливаясь в придорожных ямах.
Ольга Константиновна, Евга, Изабелла, Настя стояли у обочины и взмахивали белыми рукавами халатов. Где-то далеко мелькнули ещё раз сквозь прутья кроватей лица ребят. Они выбрасывали вверх руки и что-то кричали, но что кричали, было уже не разобрать. Ганшин махнул наугад Поливанову, поискал кого-то глазами в девчачьем ряду, и ему показалось, что увидел Ленку: она смотрела на него, заслонившись локтем от солнца.
Грузовик набрал скорость и, покачивая бортами в разбитых колеях, поплыл по дороге, оставляя за собой долго оседавшее облако белой вонючей пыли.
А ребята из седьмой палаты, которым наскучило затянувшееся прощанье, уже через минуту были заняты каждый своим делом.
Зацепа разложил на одеяле подаренные Севкой открытки и перебирал их своими тощими, как соломка, руками. Костя, часто мигая белёсыми ресницами, достал из-под подушки книгу и, поставив на груди, принялся её читать.
А Игорь Поливанов, которому почему-то ничего не хотелось делать, мотал руками, стиснутыми у плечей кольцами, раскачивая кровать из стороны в сторону и слушая, как она мерно поскрипывает под ним.
Эпилог
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
о средам день «отдалённых результатов». Все в этот день бывают — кто лежал и десять, и пятнадцать, и, странно подумать, двадцать лет назад. Сколько раз Ганшин пропускал этот ежегодный осмотр. А тут подумал: надо всё же съездить в Сокольники…
Проходя больничным двором, Ганшин внезапно вспомнил той глубокой, дальней памятью, какой обладают лишь запахи, как ветер, бывало, надует, нанесёт из сада на верхнюю террасу душный, сладкий аромат белых и розовых флоксов и с этим запахом раздвинется щель в ещё более давнее детское воспоминание: подмосковное лето, заросли лиловой сирени по глухому забору, тёплая пыль на тропинке, по которой бежишь босиком… Ходить, ловить рукою ветки, сорвать набухший, готовый лопнуть стручок акации, нагнуться за одуванчиком и, раздув щёки, пустить по ветру маленькие пушистые зонтики! Их белые точки едва можно разглядеть сверху в той срезанной наискось барьером части мира, какую видишь, поднявшись на локти…
Накинув на плечи белый халат, Ганшин поднимается широкими мраморными ступенями в огромный вестибюль с хрустальной люстрой, камином и деревянными антресолями, опоясывающими второй этаж. Разбогатевший архитектор строил особняк для себя, не скупясь: мрамор, зеркальные стёкла дверей, дубовые панели по стенам. Медицина приспособила к себе безвкусную роскошь дома. Из вестибюля в одну сторону двери в рентген и светолечебницу — длинную веранду. В другую — палаты и террасы 3-го отделения. В углу вестибюля — широкий, на две кровати, лифт на второй этаж — к малышам и в изолятор.
Тут нет ни одной палаты, ни единого закоулка, где бы не лежал, ещё до войны, Ганшин. Идя наверх, к кабинету главврача, он невольно взглядывает на знакомые двери. Через толстое, отливающее по краям радугой стекло видны ровные ряды постелей. Коротко стриженные, круглолицые ребята, опутанные системой лямок, колец, вытяжений, с любопытством крутят головами. Его заметили, а каждое незнакомое лицо в вестибюле — происшествие.
И вдруг опять какая-то толстуха в белом халате и колпаке громко окликает его:
— Сева! Да тебя Зинаида Эдуардовна не узнает!
Для всех он здесь не тридцатилетний, с залысинами кандидат наук, уважаемый коллегами и внушающий трепет студенткам, а Сева из второго отделения, ещё недавно привязанный к постели и известный разве что своим медицинским случаем, да, быть может, родителями, да ещё какими-то памятными случаями озорства.
— Ну, присядь со мною на минутку, — добродушно улыбаясь, приглашает его Оля Бурмакина. — Всё равно на осмотр опоздал. Ты ведь к Зинаиде Эдуардовне? Только-только уехала.
— Как уехала? — удивился Ганшин.
— Да она теперь у нас не задерживается. Можешь, конечно, показаться Голубикиной. Только не думаю, чтобы это было тебе интересно.
Олю трудно узнать — постарела, располнела и старшей сестрой теперь работает. Но улыбнётся и станет похожа на прежнюю, молодую, что с ними в эвакуацию ездила.
— К Голубикиной не пойду, — сказал Ганшин. — А кто тут из старых?
— Ты не представляешь, Сева, как всё у нас изменилось, — понизив голос, сказала Оля. — Мария Яковлевна на пенсию вышла. После смерти Ерофея Павловича набрали новых, а Зинаида Эдуардовна только раз в неделю бывает… Мне грех жаловаться, не трогают пока, член месткома, квартиру вот обещают. Но разве то теперь, что было, когда вы лежали — Игорь, ты, Лена. Родной дом был, привыкали, как к своим детям. Теперь, знаешь, у нас не залёживаются: стрептомицин, ПАСК… В необходимых случаях показана хирургия…
Оля посмотрела на Ганшина и умильно покачала головой.
— Да, Севочка, годы-то идут… И всё же, скажу, жалко старых врачей. Марию Яковлевну вот обидели, — почему-то оглянувшись, сказала она. — Был юбилей санатория, ведь она с первых дней с Ерофей Павловичем работала, а её даже не пригласили. Нам всем неудобно было. Конечно, она не сильный фтизиатр, скорее, администратор, и всё же, знаешь, не ценят у нас старые кадры… Ты бы её навестил, вот обрадуется!
«А не зайти ли в самом деле к Марии Яковлевне?» — думает Ганшин.
Деревянный домишко Марии Яковлевны с чахлым кустом сирени под окном, с весны уже пропылённым, гут же, в двух шагах от санаторского двора. На верёвке проветривается чья-то шуба. Пёстрый половик свешивается с перила крыльца.
Пройдя заставленные сундуками, отслужившей мебелью и старыми тазами сени, Ганшин нащупывает в полутьме медную ручку, стучит в дверь и входит в чистенькую комнату с кружевными занавесками на окнах.
Мария Яковлевна не суетится, не всплёскивает руками. Она почти не удивляется Ганшину, хоть и рада ему.
— Молодец, что зашёл, а в прошлом году, осенью, у меня Ляля Сухарова была.
Скрипят сохлые половицы, часы в продолговатом ореховом футляре отбивают четверти. На комоде — старые коричневые фотографии в деревянных рамочках, под ними резные круглые салфетки. Рядом книжный шкаф с медицинскими журналами и сочинениями Брет-Гарта, кожаное кресло, в которое уходишь, будто проваливаешься по пояс.
Мария Яковлевна неторопливо готовит чай, нарезает лимон на блюдечке, ставит перед Ганшиным начатую коробку с сухим тортом. Голова её чуть-чуть трясётся. Седые волосы гладко зачёсаны назад и собраны в пучок. Она садится напротив него, в лиловой вязаной кофте с глухим воротом. Веки её полуопущены, отчего у неё вечно усталый вид. Говорит она чуть в нос, тщательно подбирая слова, крепким, немного скрипучим голосом:
— Иногда, Сева, не верится, что жизнь прошла. Сейчас говорят: консервативный метод устарел, лечат эффективнее. Персонал новый, Ерофея Павловича критикуют. Конечно, результаты достигнуты большие, особенно с антибиотиками. Кто спорит. Наука вперёд ушла. А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было: гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было…
Мария Яковлевна прикрывает веками глаза, как подбитая птица. Спросит что-то о родителях, помолчит немного и продолжает:
— А как я вас в эвакуацию вывозила? Вы маленькие были, не помните… Бомбёжки в Москве начались, все из города едут, транспорта не достать, родители нервничают, персонал не соберёшь. А вы у меня в подвале на полу, на тюфяках вповалку лежите и отъезда ждёте. Я и в райздрав, и в Наркомздрав, и через знакомых. Сколько порогов оббила, пока автобусы дали. Ребят на лавки, как были, в гипсовых кроватках. Между сиденьями, чтобы на пол не попадали, положили доски. Персонал в проходе стоит, за стойки держится. Да не все и поехать могли, уговорили проводить до Владимира. Думала, на месте новых наберу. Куда там… Пристроились за Золотыми воротами, на горке, тубдиспансер к себе пустил. В самом здании мест не было, а я для вас две летних терраски отхлопотала — такие там дощатые голубенькие павильончики отдельно стояли, над обрывом к реке. Сначала, помнишь, неплохо ведь было? А тут октябрь, заморозки начались. Вы и под мехами лежите дрожите, да ещё Игорь Поливанов коклюш подхватил… И немцы до Владимира долетать стали. Как вечер, гудит сирена, немецкие аэропланы бросают зажигалки, светло как днём. Терраска деревянная, сгорите, думаю, заживо. Поставила в дежурство ночную сестру, сама в тулупе кругами хожу — жду, когда вас хватать, выносить. Забежишь в дежурку, вздремнёшь часа два-три, а под утро снова к вам. Помню, сухая трава на склоне с изморозью, скрипит под ногами, будто соль. Что делать, думаю? Каждый день в горисполком ходила, к начальнику вокзала — надо вас дальше, в Сибирь, отправлять. А составов нет, вагоны переполнены, эвакуированные по пятеро на одной лавке сидят, а мне для каждого ребёнка — полка… Шла я однажды, знаешь, от вокзала, голову повесила, в платок сморкаюсь, плакать хочется. И вдруг окликает меня знакомый один. Я его до войны на врачебных курсах встречала. «Вы как здесь?» Разговорились. Представь, главный врач санитарного поезда. Рассказала нашу беду. Он спрашивает: «А сколько больных?» — «Шестьдесят детей, да ещё персонала человек десять наберётся». Он говорит: «Вагона полтора мог бы освободить, раненые мои потеснятся, да не один я тут командую, есть и железнодорожное начальство. Словом, чтобы погрузку устроить, надо кое-кому спиртиком помочь». — «А много?» — спрашиваю. «Да пустяки, бидончика, думаю, хватит». «Бидончика»!.. А где его возьмёшь столько? У нас спирт, сам понимаешь, тогда на вес золота был. Собрала сестёр, разъяснила обстановку. Мы этот спирт изо всех пузырьков сливали, ватки со спиртом выжимали. Понесла я бидончик начальнику состава. Он крышку приподнял, нюхнул, поморщился. «Ладно, — говорит, — везите детишек. Девятый вагон будет пустой. Завтра в три погрузка, в четыре выезжаем». И поехали… Ещё чаю, Сева?