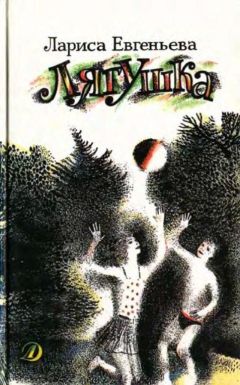Эра снова глянула на Мурашова и увидела его побелевшее лицо. Она все поняла.
— Отоварился, — хрипло проговорил он и попытался выдавить смешок, но получилось что-то похожее на всхлип.
— Неужели нельзя ничего сделать?
— Не знаю. Я уже ничего не знаю, — повторил он устало. — Раньше я думал, что можно. А теперь… Чихать я на все хотел.
— Но ведь отец…
— Если бы ты знала, как я его когда-то любил… Ему можно было рассказать все, как самому настоящему другу. И он все понимал. Я тогда так гордился… У меня родители были не такие, как у остальных детей. Не помню, когда все это началось. Сначала были громкие голоса, потом какие-то скандалы, споры… Они затихали, когда заходил я или сестра, а потом начиналось снова. Зато хорошо помню, когда он впервые пришел пьяный. Тогда он меня ударил первый раз. На следующий день он просил прощения. Потом снова напился и снова просил прощения. Мама с сестрой уезжали к бабке, возвращались… В общем, пошло-поехало.
— Это страшно, — тихо сказала Эра.
— Представь себе, не очень. Но стыд… Я уже не помню ничего хорошего — одно только плохое. Знаешь, я все чаще чувствую себя старым-престарым дедом. Как говорится, все в прошлом. И вся эта ваша детская суета — какие-то вечера, какие-то собрания… Смешно.
— Ну, пусть тяжело, я согласна… Но ведь жизнь не кончена!
— Ах, ты согласна? — покривился он. — И вообще — почему ты ко мне прицепилась? Почему ты ко всем пристаешь? Тебе их жалко?
— Нет. Просто берет злость, что они не такие.
— Ах, не такие? Подумать только, людишки не такие, как хотелось бы нашей Эрочке Милосердия! А чего бы тебе хотелось?
— Мне бы хотелось помочь им сделаться другими! Что-то убавить, что-то прибавить. Ведь так видно! Неужели они сами не видят? Чуть доброты, чуть смелости, а этому — больше везения.
— Везение тоже слепишь?
— Все можно слепить! Человек может все. Просто он должен вести себя как человек, которому везет, и ему в самом деле начнет везти!
На них оглядывались прохожие: они не замечали, что перешли почти уже на крик. Опомнившись, наконец, не сговариваясь, умолкли.
— Чего ты больше хочешь: любить или чтоб тебя любили? — с непонятной улыбкой вдруг спросил Мурашов.
— Любить. А ты?
— А я хочу есть. Будь!
— Пока, — растерянно сказала Эра.
Она не сразу поняла, почему он пошел совсем не в ту сторону, где был его дом, а поняв, бросилась вдогонку. Он не обернулся, когда она начала его звать, лишь прибавил шагу, а когда Эра, догнав, схватила его за рукав, обернулся с такой злостью, что она отпрянула.
— Хватит за мной таскаться, поняла?
— Извини… я…
— Ну чего тебе? — спросил он уже мягче.
— Пошли со мной, а?
Он раздраженно дернул плечом.
— Твоя тетя, конечно, достойная старая дама, но ты понимаешь, у меня не такое сейчас настроение, чтобы выслушивать ее шпильки. И вообще… можешь ты понять, что человеку надо побыть одному?
— Могу… Но я не к тете. Мы пойдем… Короче говоря, ты сам должен увидеть. Ты должен со мной пойти. Я все понимаю, но ты должен. Именно сейчас. Я очень тебя прошу, а?
— К психиатру, что ли? — ухмыльнулся он. — Меня мама уже водила когда я запустил в папашку вазоном. И тот сказал, что я вполне нормальный, не веришь?
— С ума сошел? Это просто… ну, один человек. Я тебе по дороге расскажу. Идем. Да брось ты этот пирожок, я тебя обедом накормлю!
Вряд ли можно было найти людей более не похожих друг на друга, чем Валерий Павлович и тетя Соня. И все же Валерий Павлович зачастил к ним почти ежевечерне. (К ним — это значит, в первую очередь к тете Соне.) Обычно после звонка в дверь следовал его неизменный робко-деликатный вопрос: «Позволите на огонек?..» — точно он признавал за тетей Соней полное право захлопнуть дверь у него перед самым носом. И, мгновенно расцветая, тетя Соня распахивала перед Валерием Павловичем дверь, а сама бросалась на кухню и принималась лихорадочно собирать на стол. Теперь в духовке всегда находилось что-нибудь «обалдительно», по Эриному выражению, пахнущее.
После ужина тетя Соня гасила свет, включала искусственный камин, и, сидя у мерцающих лампочек, имитирующих тлеющие угли, они вели нескончаемый, продолжающийся от встречи к встрече, разговор. Сначала Эра пристраивалась рядом, свернувшись калачиком в кресле, но в какой-то момент вдруг поняла, что она здесь лишняя. У них появился какой-то особый язык, как у людей, проживших вместе длинную жизнь, когда о многом говорится вскользь, мимолетно, однако собеседники, прекрасно понимая друг друга, не нуждаются в подробностях; они перебрасывались им одним понятными намеками, а часто просто молчали, глядя на мигающие огоньки, и молчание это не было тягостным или пустым. Это получилось как-то само собой, упаси бог — ей вовсе не давали понять, что она мешает, наоборот, оба они искренне просили ее посумерничать с ними у камина, и иногда Эра так и делала, но чаще всего уходила в свою комнату, отговариваясь уроками: задавали им сейчас более чем достаточно.
Сегодня она тоже ушла к себе, сказав, что у нее куча уроков. И это была чистая правда. Волосы дыбом вставали, стоило лишь подумать, сколько нужно приготовить к завтрашнему дню: восемь задач по алгебре, два параграфа по физике, сложный текст по английскому… Однако Эра бесцельно сидела за столом вот уже полчаса, не прикасаясь к книгам, — все никак не могла отойти от впечатлений сегодняшнего дня.
Она все-таки увела Мурашова с собой. Демонстративно вздыхая, он плелся рядом, засунув руки в карманы. Со стороны — вихляющийся и развинченный балбес и лоботряс, великовозрастный баловень папы с мамой. Но теперь Эра знала, что отнюдь не всегда истина плавает на поверхности.
— Ну? Когда расколешься? — лениво поинтересовался Мурашов.
— Мы идем на нашу старую квартиру. — Эра не собиралась все ему выкладывать, пусть увидит сам, но кое-что, разумеется, сказать необходимо. — Раньше мы жили в коммуналке… ну, не такая уж чересчур и коммуналка — всего один сосед. В общем, я часто туда хожу. Каждую неделю. Я хочу, чтобы ты с ним познакомился тоже.
— Ясно, — хмыкнул Мурашов, — что ничего не ясно. Он что — передовик труда? Я так понял: он должен меня воспитывать?
— А зачем воспитывать? — искренне удивилась она.
— Ну, не знаю… — Он озадаченно помолчал.
Разговаривать, впрочем, и времени не было: они подошли к прежнему Эриному дому. По широчайшей лестнице бывшего купеческого особняка поднялись на второй этаж. Эра достала из кармана ключ, и они вошли в небольшую прихожую. Почти сразу дверь, ведущая в комнату, открылась, и на пороге встал высокий, до смешного похожий на папу Карло, каким его рисуют в детских книжках про приключения Буратино, человек.
— Привет, Эрочка, — сказал он, протягивая Эре руку. — Ты не одна? Кто это?
— Это мой одноклассник Игорь Мурашов, — сказала Эра, пожимая его руку. — А это Андрей Семенович.
В старом, помутневшем трюмо Эра увидела отражение Мурашова: побледнев, он растерянно смотрел на Андрея Семеновича. И Эра понимала, почему: пристально-неподвижный взгляд Андрея Семеновича, направленный выше их голов, в какую-то невероятную даль, странно контрастировал с его веселым и оживленным лицом.
— Слепые обычно любят ощупывать новому человеку лицо, — улыбнувшись, проговорил Андрей Семенович, — но, мне кажется, зрячий получает от этого слишком малое удовольствие, так что разрешите просто пожать вам руку. Может, я ошибаюсь, но по руке можно понять о человеке многое, хотя, разумеется, далеко не все. Прошу!
— Интересно, что вы поняли по моей руке? — кашлянув, неловко спросил Мурашов.
Вместо ответа Андрей Семенович крепко подхватил Мурашова — и вовремя: заходя в комнату, тот споткнулся о высокий порог, еле удержавшись на ногах.
— Проклятый купчина! Здесь, представляете, была его кладовка. Подозреваю, что он соорудил такой высоченный порог, чтобы о него спотыкались, удирая, воришки. А вон в той комнате, где жило Эрочкино семейство, там была его кухня. Видите, какие изумительные на стенах изразцы? — Андрей Семенович пошире раскрыл дверь. — Дверь между комнатами я пробил после их отъезда… Конечно, испортил стену, да… Жаль, но ничего не попишешь.
— Вы же все равно не видите, — вырвалось у Мурашова, и он от неловкости залился краской.
Но Андрей Семенович не заметил (или сделал вид, что не заметил) его бестактности.
— Да вы садитесь, — сказал он. — Хоть в кресло, хоть на диван.
Мурашов сел, оглядывая тесную, не намного больше вагонного купе, комнатушку. Единственное, чего здесь хватало с избытком, так это высоты потолка, и тому, кто находился здесь, начинало казаться, будто он попал на самое дно поставленного стоймя пенала.
Эра ушла на кухню — отгороженный от купеческой кухни закуток с третью окна.