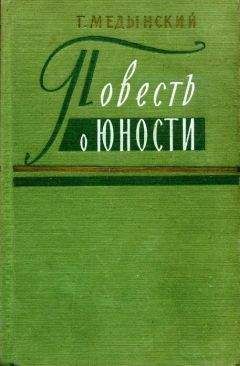— А разве он так сказал? — выкрикнул Вася Трошкин.
— Ну, знаете!.. — не обратив внимания на его реплику, продолжала Нина. — Это дерзко, больше чем дерзко, это оскорбительно. Тогда мы хотим знать: для чего мы сотрудничаем?
Столкновение это произошло еще при Полине Антоновне, и именно о нем она говорила с Борисом в начале своей болезни. На каникулах прибавились новые недоразумения. Но самое тяжелое произошло, когда уже начались занятия.
Поздно вечером в кабинете директора раздался телефонный звонок. Звонила директор женской школы, той самой, с которой дружил класс Полины Антоновны.
— Скажите, есть у вас ученик Сухоручко?
— Есть. А что? — ответил Алексей Дмитриевич.
— Дело вот в чем, Алексей Дмитриевич! Последнее время этот ваш Сухоручко в сопровождении каких-то еще двух молодых людей не дают прохода моим девочкам — вертятся около дверей нашей школы, бросаются снежками, пристают. А последний раз он, этот Сухоручко, оскорбил… вы понимаете, очень нехорошо оскорбил одну нашу девочку, Майю Емшанову. Она пришла ко мне вся в слезах, и мне потом пришлось объясняться с ее родителями. Тогда я дала задание швейцару задержать этого, простите, хулигана. И вот сегодня его задержали. Он оказывал сопротивление, ругался. Я его стала спрашивать, из какой он школы. Он отмалчивался, вел себя дерзко, даже грубо. Продержала я его под охраной целый вечер и в конце концов пригрозила милицией. Ну, тогда он наконец сдался и назвал номер школы.
— И, конечно, не тот? — заметил Алексей Дмитриевич.
— Да, не тот! Я позвонила туда, там о Сухоручко ничего не знают. Я стала звонить в милицию. И вот только тогда этот лощеный на вид молодой человек назвал номер вашей школы. Теперь, значит, правильно?
— К сожалению, правильно! — вздохнул Алексей Дмитриевич.
— Что же с ним делать?
— А что же с ним еще делать?.. Очень прошу извинить за причиненное им беспокойство, а сейчас отпустите его. Теперь уж с ним займемся мы сами.
На другой день директор вызвал к себе Николая Павловича, замещавшего Полину Антоновну в качестве классного руководителя десятого «В», рассказал ему о случившемся и спросил, что он думаем делать.
— Ну что ж!.. Я поговорю с этим Сухоручко, только это бесполезно! — сказал Николай Павлович, но сказал так вяло и безучастно, что директор понял: это будет действительно бесполезно.
Директор знал жизненную историю этого человека с одутловатым, усталым лицом, небритым подбородком и помятым галстуком: у него была безнадежно больная жена, лежавшая в постели, двое детей и старуха мать. Жили они в маленькой комнате за городом, и Николай Павлович, рано утром уезжая из дому, возвращался поздно вечером, едва ли не с последним поездом: он давал уроки в двух школах, занимался репетиторством, брался за все, лишь бы прокормить свою большую семью. Поэтому он вечно спешил и неохотно отзывался на разные мероприятия, проводившиеся в школе. Когда директор предложил ему принять классное руководство вместо заболевшей Полины Антоновны, Николай Павлович взялся за него тоже без большой охоты и интереса. Так же без всякого интереса он отнесся и теперь к рассказу директора о новой выходке Сухоручко. Но безразличие в таком вопросе могло только испортить все дело, и Алексей Дмитриевич сказал:
— Впрочем, нет, не нужно! Я займусь этим сам…
Он посоветовался с завучем, и они вместе решили прежде всего использовать в этом деле коллектив. После уроков они пошли в десятый «В», и директор рассказал притихшим ребятам о поступке Сухоручко.
— Ну вот!.. — закончил он свой по-деловому короткий рассказ. — Ваши представители выступали когда-то перед педагогическим советом, ручались за своего товарища, брали обязательства. И что же получается?
— Можно, Алексей Дмитриевич? — рука Васи Трошкина порывисто вскинулась кверху.
— Пожалуйста! — разрешил директор.
— А мы чем виноваты? — сказал Вася, поднимаясь из-за парты. — Его и из школы исключали и снова приняли. А почему? И что мы с ним сделаем? Если уж администрация ничего сделать не может, а мы что?
— Вот это та-ак!.. — многозначительно протянул директор. — Это, я понимаю, сознательность! Мы-то думали, — Алексей Дмитриевич указал на сидевшего рядом с ним завуча, — что в десятом «В» коллектив — сила, в десятом «В» — сознательные ученики, пример для всей школы. И вдруг — моя хата с краю, я ничего не знаю? Не думал! Не ожидал!
Директор выждал, чтобы прислушаться к произведенному им впечатлению, и продолжал:
— Администрация, к вашему сведению, знает, что делать, и со своей стороны наметила необходимые меры. Но мы, посоветовавшись с учителями, решили обратиться к вам. Вы — десятый класс, взрослые люди, с паспортами, граждане! А поступок вашего товарища касается и вас всех, он порочит вас перед лицом девочек, с которыми вы дружите. Разве вы можете стоять в стороне?
Как ни старался Алексей Дмитриевич, большого результата он не добился: были речи, были обличения, но все это не выходило за рамки тех собраний, когда все произносится ради того, чтобы произнести, а обличения звучат как заученные.
Все это было бы совсем нерадостно, если бы не последующие события…
* * *
В дневнике Вали эти последующие события описаны так:
«Удар! Ужасно! Все кончено!..
В школу с мрачными лицами пришли Нина Хохлова и Инна Вейс и сказали, что девочки разрывают дружбу. Причина — хулиганская выходка Сухоручко и все поведение мальчиков. «Отдайте нам наши книжки, которые вы взяли для подготовки к монтажу о двух демократиях!» — «Почему?» — «Так решили девочки!» Всё! И ушли, не попрощавшись.
Зло охватило меня ужасное! Пришел домой, грубил матери, играл на гитаре, порвал струны. Все потеряно! Как-то бессмысленно стало жить. Что же теперь остается? Одни уроки? Нет воодушевления, ничего нет, пустота и позор! И как только теперь мы будем жить?»
Борис разрыв с девочками пережил иначе. Первое, о чем он подумал, выслушав Нину Хохлову, был вчерашний разговор в школьном комитете комсомола. Костя Прянишников, ставший теперь почти приятелем Бориса, рассказал там о диспуте с девочками, на котором ему пришлось присутствовать, и вот Кожин, секретарь комитета, вызвал к себе Бориса.
— У вас, кажется, неплохо поставлена дружба с девочками. Подготовь-ка сообщение, поговорим на комитете. Может быть, что подскажем, а главное — расскажешь ребятам. Так сказать, обмен опытом!
«Вот тебе и обмен опытом! Какой же теперь поднимется смех во всех классах!» — подумал Борис, глядя на горделиво поднятую голову Нины Хохловой. Ее гордый вид вызвал в нем раздражение. «Добилась своего!» — подумал он и, насупив брови, спросил:
— Это что же — окончательно?
— Так решили девочки! — ответила Нина.
Борис еще раз смерил ее недружелюбным взглядом и сказал:
— Мы это решение не считаем окончательным. Дружба начиналась на совместном собрании двух классов, и кончить ее может только совместное собрание.
— Дело ваше! Верните нам книжки, которые вы брали для подготовки к монтажу.
— Книжек у меня сейчас нет.
— Это нас не касается!
— Хорошо, книжки будут! Всё?
— Всё!
Пока Борис поднимался в свой класс из вестибюля, где, как и в первый раз, происходила встреча парламентеров, он уже надумал план действий. Быстро собрав всех ребят в классе, он закрыл двери и, сообщив, что произошло, сказал:
— Прежде всего — никому ни слова! Понятно?
— Понятно!..
— Об остальном посоветуемся на бюро и потом поговорим. Всё!
По-разному относились ребята к девочкам, к дружбе с ними, но все значение этой дружбы они почувствовали только теперь, после разрыва. И прежде всего — стыд и срам перед другими классами, нельзя будет в коридор выйти: девочки отказались от них! Поэтому требование Бориса было выполнено всеми с пунктуальной точностью — никто не вынес этого сора из своей избы, все молчали, но между собою у них разгорелись свирепые споры.
— А ну их! — шумел Вася Трошкин. — А что от них проку? Ни поговорить, ничего!
Вася кривил душой. Про себя он тоже мечтал и поговорить и подружиться с кем-нибудь из девочек, но на это у него при всей его показной храбрости не хватало духу. А то, как его обрезала Майя Емшанова, показало, что это не совсем безопасное дело. Значит, о пустяках говорить нельзя, а единственно умной темой для разговоров он считал самолеты и реактивные двигатели, которыми девочки, по его глубокому убеждению, интересоваться не могли.
Феликс Крылов тоже был согласен, что без дружбы будет легче — меньше мороки, зато Валя Баталин вспоминал «Коммуну пяти» у Николая Островского и с пеной у рта отстаивал самый принцип коллективной дружбы.
— Дружба двух — понятно, дело обычное, а дружба коллективов — новое, неизвестное. Это, может быть, то, в чем мы пример должны показывать.