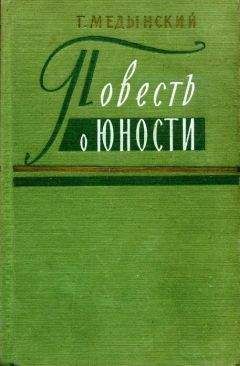Даже милиционеры, с которыми у ребят с детства свои несведенные счеты, которыми их когда-то пугали, которые потом вставали на их пути в самые интересные моменты жизни, снимали их с подножек трамваев, не давали переходить улицу где хочется, гнали с места какого-нибудь происшествия, — даже милиционеры в белых летних кителях и белых перчатках теперь не свистят в свои свистки, а сторонятся, уступают дорогу. Нашелся только один, чересчур старательный, который остановил было их.
— Вы можете праздновать свое торжество, но идите все-таки по тротуарам!
Завязался веселый спор. Какое же торжество на тротуарах?
— Кроме свистка, милиционеру положено еще иметь и сердце, — выкрикнул Сухоручко.
— Ну, это мне лучше знать, что мне положено иметь!
Дружным хохотом ответили ребята на эту горделивую реплику, как вода, обтекли они растерявшегося служаку и пошли дальше, скандируя переделанные на ходу строчки Маяковского:
На-ша ми-ли-ци-я нас бе-ре-жет!
Они идут дальше по светлеющей, уже утренней Москве. Вот библиотека имени Ленина, вот бывшая приемная Калинина, манеж с его шеренгой массивных колонн, университет, а перед глазами — Кремль с рубиновыми звездами в уже совсем светлом небе. Исторический музей, подъем на Красную площадь. А вот и она!.. Перед глазами островерхие башни, стена с бойницами, цветастые купола собора Василия Блаженного и строгие грани мавзолея.
Молча, замедлив шаги, проходят мимо голубых елей, растущих вдоль кремлевской стены, мимо мавзолея.
ЛЕНИН
СТАЛИН
Двери мавзолея открыты, у дверей — неподвижные, как будто бы никогда не сменяющиеся, часовые.
Идут дальше… Спасские ворота. Мимо кремлевских стен, мимо Василия Блаженного, вниз по склону, они спустились с Красной площади к Москве-реке и там остановились.
Уже было совсем светло. В ясном, голубом, загорающемся небе висел бледный-бледный ломтик полумесяца. За Москвой-рекой лежали светлые, как днем, но совершенно пустынные улицы. Слева за мостом дымили трубы Могэса, а еще дальше виднелся взнесенный в небо шпиль нового высотного здания.
Сначала пошумели, поговорили, кто-то пробовал запеть, но настроение было не то — песню не поддержали. Облокотившись на чугунные решетки, все смотрели на струящиеся под ними воды Москвы-реки. На воде плавало, вздрагивая и ломаясь, отражение полумесяца. В тишине, не вспугнутой еще дневными шумами, плыли перезвоны кремлевских курантов.
И все притихли, задумались.
Открывается жизнь!.. Может быть, она будет и не совсем такой, как мечталось, потускнеют одни краски, появятся и засверкают другие. Но в эти минуты она открывалась их взору — большая, неоглядно широкая, сверкающая, волнующаяся, как море, полная дел, планов, мечтаний, великих свершений и нежных движений души.
Борис переглянулся с Таней, оба улыбнулись, чуть-чуть, одними глазами, и снова стали смотреть на бегущие струи воды.
Валя Баталин… О чем он думает, глядя на реку сквозь свои очки?
О математике, которая не обманет, не обидит и не подведет, или о неудачах в жизни, пути которой куда труднее угадать, чем решить сложнейшую из всех математических задач? Кто-то когда-то найдет и его — должен, не может не найти! И поймет его и увидит, что за этими очками, за близорукими зелеными глазами, за некрасивым лицом скрывается то, что всего дороже в жизни, — живая и глубокая, ищущая душа…
Сухоручко… Он тоже задумался. Может быть, о жизни, о будущем, о том, что кончилась пора, когда можно было «валять дурака», и что нужно же в конце концов браться за ум. А может быть, и нет, не кончилась еще для него эта пора? Может быть, поступит он, при помощи всесильного дядюшки, в кинематографический институт, нарядится в габардиновый макинтош и зеленую велюровую шляпу и будет так же «валять дурака», поглядывая кругом своими дерзкими, наглыми глазами. Может быть, мы встретим его на улице Горького, под руку с такой же дерзкой и развязной девицей, может быть, встретим на страницах газеты — в статье, в фельетоне или даже в короткой хронике: «Из зала суда»… Много придется еще повозиться обществу с этим исковерканным юношей, много и самому ему придется перенести шлепков от самой суровой учительницы — жизни, прежде чем из него образуется Человек.
Игорь Воронов, Вася Трошкин, Рубин — каждый думал о чем-то своем, непередаваемом, но очень важном.
А на всех смотрела Полина Антоновна. Вот уходят и эти, ставшие уже родными и близкими! Давно ли пришли они милыми и смешными «воробышками»? Давно ли разбили стекло в соседнем доме и притаились, думая отсидеться и отмолчаться как ни в чем не бывало? И вот… Да! Это уже молодые люди! Уже не воробышки, а орлята, которые завтра расправят крылья и улетят! Ну и летите! Ну и парите в высоком, безоблачном небе, где гуляют ветры и светит солнце!
И все-таки жалко, как своих, как собственных! Но пройдет лето, и придут другие, новые, и их так же нужно будет принимать в большое, безотказное педагогическое сердце!
Из-за домов, из-за крыш, труб, шпилей великого города, играя в окнах, на крыльях пролетевшего в небе белого голубя, на скатах островерхих кремлевских башен и. Большого дворца, восходило солнце.
Начинался день! Новый день жизни! И, как бы торопя его, Борис оттолкнулся от решетки, выпрямился и, оглядев притихших ребят, сказал:
— Ну! Пошли дальше!
1950—1954