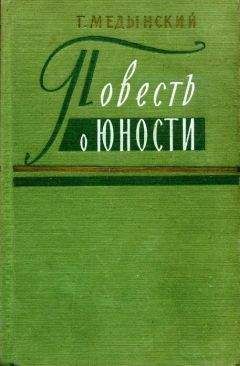Я же начал с формулирования. Передо мною очень неясно маячила моя жизненная задача. И я, конечно, не знал, как сформулировать ее. Я решил, что нужно найти конечную цель — конечную мечту человека вообще.
Известную роль в этом сыграла математика. Ведь математика логически построена на аксиомах. И в жизни я тоже стал искать такие аксиомы, на которых все построено, — логические основы, из которых все явления жизни должны исходить, объясняться и доказываться, как теоремы. Тогда ясной станет цель жизни, а уже исходя из нее, можно так же логически наметить и весь жизненный путь человека. Какова же эта цель? Наверное, это та цель, которую ставит себе человек, его, по моей философии того времени, «натура». Но, прислушиваясь к себе, я обнаружил, что ей, моей «натуре», вдруг захотелось учиться танцевать, познакомиться с девочками, любить их, вернее — быть любимым.
Действительность оказалась куда сложнее всех моих аксиом!
В то же время жизнь в классе не давала углубляться в себя, шевелила, толкала, заставляла по-новому на все смотреть. Я вдруг оказался в активе класса и стал думать уже не о своей только персоне, но и о классе, о коллективе, и не просто потому, что «приходилось», а я уже почему-то не мог об этом не думать. Вот какие случаются превращения в жизни!
А вот еще одно превращение — музыка. Когда-то я ничего не смог ответить на вопрос Сонечки о Листе. Потом — гитара, аккордеон, на котором, кстати, я сейчас разучиваю «Турецкий марш» Моцарта. Но теперь я разочаровался и в аккордеоне. Настоящую музыку я почувствовал, когда услышал в консерватории Девятую симфонию Бетховена. После этой музыки хотелось совершить что-то такое, что никому не под силу. Я стал ходить по концертам, слушал Баха, Чайковского. Вот теперь я с удовольствием поговорил бы с Сонечкой.
И — Горький!.. Когда мы его изучали в этом году, когда я в связи с этим читал его, мне он очень понравился, в нем я нашел много волнующего. Один раз мне пришло в голову: не потому ли он мне нравится, что все говорят о нем, все хвалят? Нет, я чувствую Горького всей душой, без фальши. Читая его произведения, видишь такую могучую, красивую, хотя и не во всем понятную мне жизнь людей, что сам невольно воодушевляешься, очищаешься от всех своих недостатков и пороков, от всего мелкого и ничтожного, что грязнит душу, и чувствуешь себя настоящим человеком.
Все это отвлекало меня от математики. Но это была явная неблагодарность с моей стороны по отношению к ней. Она приучила меня к анализу, научила мыслить, разбираться в причинах и следствиях. Она мне помогла даже в литературе — там ведь тоже нужен анализ! Математика помогла мне и в общественной работе. Как редактору газеты, мне нужно было разбираться в причинах и первопричинах не математических уже идей, а явлений жизни — кто и почему то-то и то-то сделал? Кто и почему так себя ведет?
С другой стороны, работа в газете, участие в жизни класса помогли мне и в решении моих «философских» вопросов. И вот у меня постепенно стало намечаться нечто вроде подлинной «первопричины», основного принципа жизни: труд и коллектив. В значении их я убедился теперь на собственной шкуре.
Личное во мне занимало раньше очень много места, и в то же время личная жизнь была серенькой и неинтересной. И меня мучил вопрос: зачем жить? Отыскивая на него ответ, я даже приходил к мысли, что жить незачем, — скучно! Я смотрел на себя извне и бичевал себя за физические недостатки, доставшиеся мне от природы, разные мелкие невзгоды в личной жизни я очень близко принимал к сердцу и тяжело их переживал. Школа, коллектив, советская литература и особенно Горький помогли мне выйти из этой трясины.
Вопрос о смысле жизни стал потихонечку переворачиваться с головы на ноги. И я делаю вывод: нужно жить общественной жизнью, а не замыкаться в себе, и ценность человека определяется в конечном счете тем, что человек сделал для общества.
Вспоминаются мне и слова Калинина, которого я прочитал по совету Бориса: в жизни нужно иметь что-то основное, стоящее выше мелкого, личного, и этому нужно посвятить жизнь. И вот я избираю своей целью продолжать изучение математики, физики, теперь уже серьезно. В восьмом классе была сплошная романтика — от Лобачевского до атомной бомбы! Романтично, увлекательно и модно. Атом! Бомба! Теперь я ближе познакомился с философскими вопросами и уже всерьез заинтересовался ими.
Вот я и нашел твердую линию для своей душевной жизни. У меня теперь есть сильное оружие, которым я буду поражать все мои слабости: мою меланхолию, мою неудовлетворенность собой, самобичевание — все, что было вызвано отсутствием чего-то определенного в моей жизни.
Я оставляю свои внутренние противоречия, глупую любовь свою я затолкаю в самый отдаленный угол души и не хочу об этом ничего знать. Жизнь передо мною открыта, ясна: жить нужно не собою, а всем. Живет только тот, кто борется».
Валя писал это искренне и так же искренне хотел оставить свои «противоречия» позади, за пределами своей жизни. Но «противоречия» не хотели оставлять его. Когда он долго не видел Таню, он действительно старался ее забыть, «затолкать в самый отдаленный угол души», но каждая новая встреча с нею вытаскивала из этого угла мысли о ней, а вместе с ними и все остальные его «противоречия».
«Таня написала в газету очень интересную заметку о работе физиологического кружка при университете, где она, оказывается, работает. И после школы она собирается идти на биологический факультет. Вообще, кажется, это очень глубокая девочка, и мне хочется ее узнать поближе. Но — боюсь! Сейчас сна является для меня светлым идеалом, самой чистотой, красотой и умом, и я боюсь потерять ее. А ну-ка окажется, что она не та, ну-ка получится, как с «живописным созданием», с Юлей?»
«…Может ли Таня любить меня? Может ли Таня любить кого-нибудь еще? И — за что? Одно время мне казалось, что у нее что-то начинается с Борисом. Но нет — показалось! Борис не уделяет ей особого внимания. Она тоже. Нет! Такая девушка может любить только кого-нибудь особенного!»
«…Был вечер, встреча с представителями зарубежной молодежи. После вечера — танцы. Я танцевал мало, боялся приглашать: ну-ка откажут! Вдруг ко мне подошла Таня и пригласила танцевать. Это очень приятно, когда девушка сама тебя приглашает. А тут — особенно! Я ничего не видел и не слышал, кроме музыки и ее. Я не разговаривал с ней — не хотелось, я только чувствовал ее, я наслаждался.
Потом к ней прилип Прянишников из десятого «А», и она танцевала с ним почти все время. Что ей дался Прянишников? Внешность у него приличная, но в разговоре держится несерьезных тем, глуповат.
И она чему-то смеется, веселая. Неужели и Тане нужна только внешность? Неужели и она «обычная»?
Вышел в коридор, сел на скамейку. Противно!
Вдруг — Таня.
— А ты что же сидишь?
— Так. Настроение неважное! — ответил я, стараясь тоном подчеркнуть то, отчего у меня такое настроение.
— А плохое настроение — это эгоизм! — ответила Таня и ушла.
Вот и понимай! «И кто ее знает, на что намекает?»
После вечера очень хотелось посмотреть, с кем она пойдет домой, кто ее будет провожать. Не заметил, упустил. Долго ходил по Москве один. Думал о своем.
Хуже всего то, что не с кем поделиться и ни с кем нельзя поделиться, даже с Борисом. Любовь — это очень нежное, робкое чувство, и очень нехорошо, если в ней начинают копаться посторонние. Даже друзья!
Таня! Таня!
Я уверен, что она не будет, не может быть «моей». Но окончательно потерять ее — больно. Пусть она не для меня, но все же это огонек в моей душе. Пусть бессмысленно, но я стремлюсь к ней, я чувствую прилив энергии, подъем сил, я даже лучше учусь. Во имя ее!
Ведь так приятно иметь в душе теплый уголок. Любовь, даже неразделенная, — счастье!
Пришел домой поздно, занялся газетой, подготовил ее к выпуску.
Когда же увижу Таню снова?.. Нет! Прочь от меня! Спать!»
* * *
— Тебе бы, отец, с Бориской поговорить!..
— А что?
— Да что-то рубашки стал часто менять! — присаживаясь рядом с мужем, сказала Ольга Климовна.
— Рубашки? — переспросил Федор Петрович, откладывая в сторону газету.
— Да. Раньше, бывало, он на это никакого внимания не обращал, а теперь — давно ли у нас баня-то была, а нынче опять спрашивает.
— Дала?
— Дала.
— Ну, правильно!.. Давно замечаешь-то?
— Не сказать, что давно, а… замечаю! И о носках у меня разговор с ним был. Носки запросил — в клетку.
— Д-да-а… — неопределенно протянул Федор Петрович. — Доглядывай!
— Доглядывай!.. — недовольно повторила Ольга Климовна. — Парень не девка. С дочерью я бы поговорила, а с сыном…
— Да-а!.. — Федор Петрович задумался. — А как об этом заговоришь-то? Дело тонкое!
— Главное — не вовремя! — не отвечая на его мысли, сказала Ольга Климовна. — Тут самые экзамены подходят, а он…