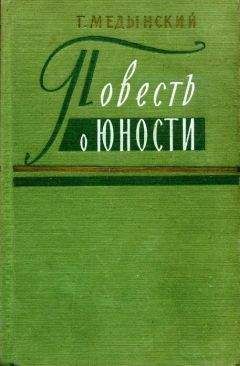— Наблюдал! — ответил Борис, с улыбкой глядя на ее сияющие глаза.
— Что? — спросила Таня.
— Вот если нарисовать такие глаза — не поверят!
— Я с ним, можно сказать, о серьезных вещах говорю, о поэзии, а он…
Таня шутя ударила его по руке.
* * *
Валя продолжал дружить с Женей Волгиным. Они довольно часто встречались.
Однажды они встретились в воскресенье у памятника Льву Толстому на Девичьем Поле. Весна была в полном разгаре — зеленели деревья, светило солнце. Все аллеи парка кишели ребятишками, гуляющими, и уединиться было негде. Друзья сели на сорок второй номер трамвая, поехали в Фили. Пройдя через липовый парк, вышли на крутой песчаный обрыв. Внизу, делая большую излучину, текла Москва-река, налево — село с белой колокольней, направо — шлюзы начинающегося здесь канала Москва — Волга. За рекой большая луговина с какими-то домиками, на горизонте телеграфные столбы, — там, кажется, проходит железная дорога. Ширь!
Спустились к реке, сели на молодую, свежую траву.
Женя с увлечением рассказывал о колебательных функциях. Сначала, как всегда, все было ясно и хорошо. Затем пошло непонятное. А потом разговор перекинулся на общие вопросы физики, математики. Говорили об их зависимости одна от другой, взаимном влиянии, а отсюда рукой подать до философии математики и выяснения ее сущности. Женя стал развивать основные тезисы своего реферата, который он готовил для студенческого научного общества.
Этот реферат он построил в виде спора между материалистом и идеалистом, из которых первый отстаивал познаваемость мира, второй, наоборот, — его непознаваемость. В этом споре материалист теснит идеалиста, выбивая его со всех позиций, а тот, отступая перед сокрушающим его развитием наук, наконец говорит:
«Ну, хорошо! Пусть границы наших возможностей расширяются. Пусть микроб, которого не мог видеть простым глазом дикий человек, теперь, благодаря микроскопу, вырос и мы можем его наблюдать. Пусть магнитное поле, которое нельзя было ощутить ни на вкус, ни на запах, ни обжечься об него, ни уколоться, ни увидеть, ни услышать, оказывается существующим и обнаруживается опять-таки приборами. Но все же границы нашего познания есть, и лежат они в самой природе человека…»
Валя ждет, что же еще скажет воображаемый идеалист и почему он видит в природе человека границы его познания. Но вот вверху, над собою, на краю песчаного обрыва, с которого они сами только что сбежали, Валя замечает две фигуры: голубое платье девушки и коренастую фигуру молодого человека. Они стоят рядом и кажутся ему чем-то знакомыми. Вот молодой человек взял девушку за руку, она вырвалась и побежала вниз, по обрыву, к реке. Он — за ней. Вот они бегут внизу, по зеленеющей уже траве, и в их беге, в движениях видно беспечное веселье: она делает вид, что убегает, он делает вид, что не может ее поймать. Наконец он ее схватил и взял под руку. Они пошли берегом, приближаясь к Вале и Жене.
«Разве вы можете отрицать, что в природе существуют такие явления и вещи, которые человеческое сознание не может представить, — продолжает между тем свою речь идеалист, — они в принципе не представляемы. Возьмите электрон. Это частица и волна одновременно. Свойства их до того противоречивы, что их нельзя представить».
Валя слушает эту реплику идеалиста, ему очень интересно, что ответит материалист. Но те двое идут, приближаются и наконец… Да, теперь Валя совершенно ясно видит их: это Борис и Таня!
Валя делает усилие, — он совершает героическое усилие, чтобы не потерять нить мысли, чтобы выслушать и вникнуть в то, что отвечает идеалисту его непреклонный соперник.
«Пусть так! Пусть существуют вещи, не представляемые человеком. Но непредставляемое еще не значит непознаваемое. Непредставляемое можно познать. Не при помощи наглядных образов, а чисто математических формул, уравнений… Вот Леверье открыл планету Нептун, о которой никто до него не знал и которую он сам не видел. Математическими вычислениями он определил ее путь, ее положение, величину, прежде чем ее кто-либо увидел в телескоп. Но это все вещи представляемые. А вот вы говорите об электроне. Это частица и волна одновременно, — правильно! Представить этого нельзя, — правильно! Но математически описать, познать его свойства и использовать для практических целей — можно!»
А те двое шли, шли прямо на Валю. Вот они уже заметили его, кажется, узнали. Борис сделал движение, хотел вырвать руку из-под локтя Тани, но удержался, принял независимый, даже, как показалось Вале, вызывающий вид. На лице Тани скользнула улыбка — не то смущения, не то жалости. Так они прошли мимо Вали, под руку, и, проходя, поздоровались с ним.
— И ты здесь? — спросил Борис.
— Да, — ответил Валя. — Вот, с товарищем!
Они прошли, и Валя заставил себя не оглянуться им вслед, и только по мере того как затихали их шаги, в сердце его возникала боль. Но он напряг свою волю и, подавляя эту боль, задал Жене какой-то вопрос.
Женя, увлеченный своим рассказом, ничего и не заметил из того, что произошло. Он даже не остановил своей стремительной речи, стараясь как можно яснее сформулировать, чем же в конце концов разобьет материалист все ухищрения своего противника.
«Пусть даже существуют непредставляемые вещи! Пусть так! Но что такое представление? Это стремление человека воплотить свое знание в видимые и ощутимые формы. Но эта способность видеть и ощущать сложилась у человека исторически, применительно к тому, что ему нужно было в его непосредственной борьбе за существование. Она отражает его вчерашний день. Действительность шире способности человека к ощущению и представлению, свойства природы многообразнее тех норм, которыми в далеком прошлом были обусловлены эти наши способности. Они исторически ограничены, и математика их ломает. Своими формулами и уравнениями она точнейшим образом описывает такие свойства, которые никакими другими способами нельзя ни познать, ни описать, ни поставить на службу человеку. И не только свойства, но и процессы, мгновенные изменения, переход от одного к другому. «Было» — «стало», ночь закончилась — началось утро, рассвет над Москвой. Это не может изобразить художник, перед этим бессильно слово, это в какой-то мере может передать только музыка. Но только в какой-то мере. Математика выражает эти процессы точными формулами. Необычайной мощи орудие нашего познания мира, проникновения в его самые сокровенные, самые потаенные глубины — вот что такое математика!»
Валя не знал, правильно ли все, что говорил Женя, или неправильно, он не задумывался, не анализировал. Он воспринимал это живо и непосредственно и всем своим существом, как поэзию, — поэзию математики, открывающую совершенно неограниченные перспективы познания — без конца и края, «без того берега». Теперь это для него был раз и навсегда решенный вопрос: он должен готовить себя к жестокой борьбе с природой, которая скрывает свои тайны в таких глубинах, куда лишь мысль человеческая может проникнуть и раскрыть их. Он уйдет в эти глубины, он отдаст все свои силы, всю свою жизнь, чтобы раскрыть, постигнуть и поставить их на служение людям. Здесь и только здесь счастье, здесь — немеркнущие радости жизни!
Все эти мысли и чувства поднимались в душе у Вали Баталина по мере того, как Женя развивал свои тезисы и как затихала, приглушенная волей, острая боль в его сердце. Но, приглушенная, она продолжала жить и, как только Валя простился с Женей, вырвалась, забушевала. Тут были и чувства обиды, унижения, стыда и в то же время появившееся вдруг сознание своего достоинства.
«А чем я хуже?.. Чем я хуже Бориса? Она же меня не знает! Она меня совсем не знает!..»
Через минуту разум восстал против этой вспышки оскорбленного самолюбия, пытался успокоить чувства, но чувства не покорились ему, и разум со всеми его доводами, как утлая лодчонка, болтался на разыгравшихся волнах. Голубое небо… голубое платье… И эта улыбка… жалость…
Валя долго ходил по улицам Москвы. И, только когда немного успокоился, он пришел домой, достал свою заветную тетрадь в клеенчатом переплете и записал:
«Все ясно! Но всему этому я противопоставляю теперь то большое, великое, что открылось мне в рассказах Жени, что доступно и мне и что, может быть, ждет меня. Как это написано на плакате в нашем химическом кабинете: «Нести фонарь науки в неизведанные еще глубины и осветить дремлющие там сокровища» (Менделеев).
Я не осуждаю. Ни ее, ни Бориса. Я даже начинаю чувствовать облегчение, свободу и новые, неведомые до сих пор силы.
Я выше этого!»
Затем, другими чернилами, было приписано:
«А на душе все-таки грустно!»
Позднее, спустя несколько дней, на этой странице появилась вклейка:
«Если бы вся цель нашей жизни состояла в нашем личном счастье, а наше личное счастье заключалось только в одной любви, тогда жизнь была бы действительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами.