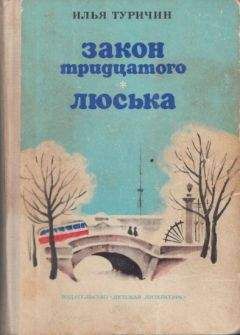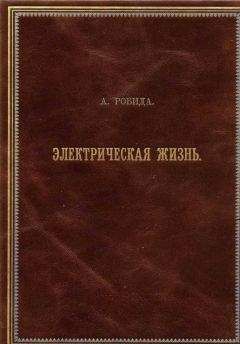— Чему учить? Можно вызубрить наизусть два десятка пушкинских строк. Даты рождения и смерти. Названия произведений и даже историю их написания. И все это есть в наших программах. Но если не откроется ученикам душа поэта, если не сумеют увидеть они мир его глазами, если не опечалятся его печалью и не возрадуются его радостью, — к чему им даты его жизни?
Так чему и как учить, Петр Анисимович?
Конечно, сочинение об Иване Ивановиче не предусмотрено программой. Но ведь оно может разбудить фантазию, а стало быть, и мысль, и, может быть, чувства.
А вместе с мыслью и чувством придет и самое главное — отношение, оценка.
Скажите откровенно, Петр Анисимович, может быть, именно это и не устраивает вас?
А не преувеличивает ли некто Иван Васильевич Соколов?
Хорошо. Оставим это. Возьмем другой аспект. Учитель Соколов — комсомолец, и ученик Нектов — тоже. Состоят они в одной организации, руководствуются одним уставом, стало быть, пользуются теми же правами и несут на себе груз тех же обязанностей. А что, если ученик возьмет да и поучит учителя на комсомольском собрании? Или, может быть, создать два комсомола: один — для учеников, другой — для учителей?
Иван Васильевич шел размашистым шагом и вел спор с Петром Анисимовичем.
Петр Анисимович умолк. Ему нечего было возразить. Или, может быть, сам Иван Васильевич не находил возражений?
Когда отец улетал, Оленька садилась за его письменный стол. Зажигала старую настольную лампу-вазу с темно-зеленым стеклянным абажуром, гасила остальной свет. Кожаный диван, и массивные кожаные кресла, и черный стеллаж во всю стену, и столик с радиоприемником — все погружалось в полумрак, отступало. Только зеленовато поблескивали корешки книг да искрилась изморозь на окне.
Теплый свет лампы ложился на стол ровным полукружьем. Мягко светился абажур. Маленький самолетик, прикрепленный к металлической подставке тонкой крепкой проволокой, казалось, вот-вот сорвется и полетит. Мерно тикали часы на стеллаже, подчеркивая покой отцовского кабинета, надежность этого покоя.
У Оленьки был свой письменный стол. Светлый, с темными прожилками причудливого рисунка, он стоял в маленькой комнате возле кухни. Еще там была тахта, отделанная таким же светлым с прожилками деревом, жесткое кресло, два стула и аккуратный самодельный стеллаж с Оленькиными книгами. Стеллаж выстроил отец. На полу лежала потертая медвежья шкура. Ее привез отец откуда-то из Сибири. Над дверью красовались оленьи рога из тундры; на стеллаже вместе с книгами ютились причудливые раковины из Владивостока; камешек, напоминавший пчелиные соты в разрезе, уроженец Гималаев; китовый ус, который отцу подарили в Одессе китобои; огромная кедровая шишка с Амура; маленький черноморский краб под стеклянным колпаком — дар Ялты; панцирь черепахи из Каракумов…
Оленька любила свою комнату, которую отец шутя называл «лягушатником», но когда он улетал, предпочитала сидеть за его письменным столом. Вот как сегодня.
Под рукой — раскрытая неначатая тетрадка, черная, с золотым ободком авторучка. Вот в доме напротив зажегся оранжевый огонек; рядом — голубой, повыше матово светятся шторы… Кажется, что окна вбирают в себя остатки дневного света, и поэтому на улице становится темно.
Интересно, любил ли Иван Иванович сумерки? Что он делал по вечерам?
Оленька закрывает глаза и замирает. Тикают часы. Иван Иванович, молодой, энергичный, склоняется над микроскопом, тонкими, длинными пальцами медленно крутит винт настройки. Неудачи, неудачи, неудачи. Поиски. Напряженные, неистовые поиски неведомого вируса. Иван Иванович — ученый, его еще никто не знает, и, может быть, так и не узнают его имени люди. За окном чужие окна вбирают в себя остатки дневного света. Наступает ночь. Но Ивану Ивановичу не до сна. Здесь он, вирус, вот он, а не виден, неуловимый. А надо его поймать. За хвост. Интересно, есть ли у вирусов хвосты? Или вирусы только крохотные точки, палочки, скобочки? Вроде микробов. Как в той капле воды, которую рассматривали по очереди в микроскоп на уроке биологии. Только совсем-совсем крохотусенькие. Все-таки интересно: могут быть у них головы и хвостики?.. Какой только пакостью не населен мир! Человек, царь природы, покоряющий космическое пространство, может погибнуть от какого-то жалкого вируса!.. Вот и Иван Иванович погиб, так и не найдя своего головастика. И оставил завещание. А в нем отдавал свой скелет на пользу науке… И звали его вовсе не Иван Иванович. Как же его звали?.. Может быть, Виктором? Может быть, он тоже писал стихи? И тоже делал глупости? Впрочем, все мальчишки, если к ним присмотреться, способны делать глупости. Чтобы обратить на себя внимание… Чтобы понравиться девочкам… Уже в первом классе за косы дергают. Интересно, как па старался понравиться ма, когда они были молодыми? Наверно, делал мертвые петли? Или пролетал перед ее окнами, покачивая крыльями? Надо будет спросить ма.
Из всех мальчишек в классе только, пожалуй. Лева не способен совершить глупость. Но Лева — уникум. Лева станет настоящим ученым. Молчун и ужасно рыжий. Будто специально красили. Сима говорит, что рыжий цвет выходит из моды. То-то Симина мама заметно потемнела. Глупость это — мода. Иван Иванович не напяливал переуженных брюк и не носил свитера цвета взбесившейся лососины. И бороды у него не было. Зато у него была цель. Он искал вирус, чтобы спасти людей. Если нет у человека высокой цели, целью становится грошовая мода — «дудочки» и борода. Виктор тоже не модник. Только очень уж перетягивает талию. Спортивный мальчик, как говорит Лузгина. Лева станет ученым, Виктор — поэтом. И издадут его книжку. И на книжке будет посвящение: «Посвящаю О.» Ужасно глупо.
Интересно, если бы тогда, на катке, упал не Виктор, а кто-нибудь другой, Володька Коротков или Плюха?.. Она вообще просто испугалась или потому, что упал Виктор?
И почему так часто хочется сказать ему что-нибудь резкое, как-то задеть, обидеть? Другому не хочется, а ему скажешь. А потом ругаешь себя за это…
Оленька вздохнула. Взяла авторучку, нарисовала на обложке тетрадки кружок. Потом поставила две точки, палочку сверху вниз, палочку слева направо. Засмеялась и пририсовала щетинку. Получилась забавная бородатая рожица.
Потом Оленька стала придумывать первую фразу. Очень трудно придумать первую фразу. Как, впрочем, и вторую, и третью. Вообще сочинения почему-то получаются бледными, неживыми. Если просто рассказывать — интересно, а напишешь — слова каменеют. Подобно пластилину: пока мнешь в пальцах — лепи что хочешь! А слепишь — затвердел. И все. Или начинай сначала. Так и слова: мнешь, мнешь, вылепишь фразу, а она затвердеет. И все.
Оленька пририсовала рожице круглые уши.
В дверь заглянула Елена Владимировна.
— Ты уроки делаешь?
— Нет. Пишу роман.
— Роман? — удивилась Елена Владимировна, вошла в комнату и уселась в большое кожаное кресло, вытирая руки о пестрый фартук.
— Роман в трех частях с прологом и эпилогом, — серьезно сказала Оленька, искоса поглядывая на мать.
Дома и муж и дочь разыгрывали Елену Владимировну по любому поводу. У нее было удивительное свойство — все принимать на веру, не задумываясь — правдоподобно ли то, о чем ей говорят, или совершенно немыслимо. Ей можно было сказать, что на Невском и в самом деле видели знаменитого крокодила с дымящейся трубкою в зубах. Она только всплеснет руками, уставится на собеседника чистыми синеватыми, как у Оленьки, глазами и начнет выспрашивать подробности.
В доме никогда не бывало денег. Они куда-то исчезали, «испарялись», как, смеясь, говорил отец. Зато появлялись какие-то гребешки, бусы, флакончики, шапочки, сбивалки для коктейлей, кофейные мельницы, старинные кольца для салфеток или такие уж совсем бесполезные вещи, как каминные щипцы. Елена Владимировна с легким сердцем делала странные покупки и потом с таким же легким сердцем одаривала ими знакомых.
Кухня ломилась от обилия техники, но пользовалась хозяйка только стареньким сточенным ножом и мясорубкой, которую очень трудно было собрать и еще труднее разобрать. Елена Владимировна любила покупать новые вещи, но верна была старым. Алексей Павлович и Оленька только посмеивались.
Иногда Алексей Павлович, входя в свой кабинет, останавливался на пороге, с любопытством оглядывал древнюю мебель, принадлежавшую еще его деду, капитану первого ранга, служившему в Адмиралтействе, и говорил весело:
— А не выкинуть ли нам, женщины, эту рухлядь? В тартарары. Чтобы и духу ее здесь не было.
— Выкинем, — тотчас откликалась Елена Владимировна. — Это будет замечательно! Я подкоплю денег. У меня уже есть несколько рублей на сберкнижке.
Эти «несколько рублей» лежали на сберкнижке, наверно, лет десять. Потому что книжка куда-то запропастилась и только недавно нашлась.