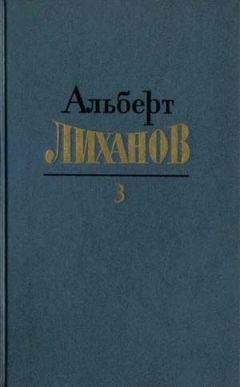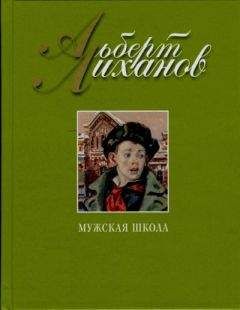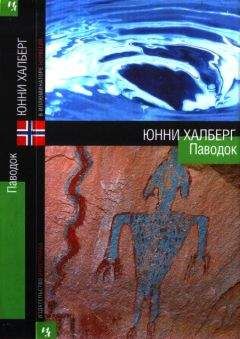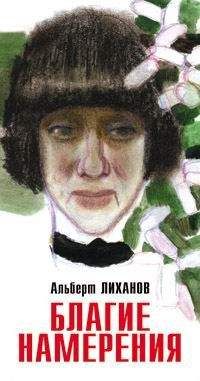Анна Павловна оторвала взгляд от трубачей, передала Сереже очередную картину и вдруг заметила его пристальный, изучающий взгляд. Она улыбнулась ему, кивнула головой, Сережа улыбнулся тоже. Потом они снова сели, уже сжавшись в плотную кучку, приставив тесно друг к другу кресла и стулья, потому что картины окружали их со всех сторон.
Они молчали.
Анна Павловна не могла бы сказать точно, о чем она думала сейчас, да и думала ли вообще. Она вглядывалась в холсты, как в лица, запоминая их навсегда, навечно, и этим было занято все ее существо, отрешенное от прочих забот. Она забыла даже про своих гостей.
Кто-то кашлянул.
Анна Павловна обернулась, улыбнулась. Леночка поцеловала ее в щеку, стала говорить о детях, о том, что им с Борисом уже пора.
— Да, да, — ответила Анна Павловна, — конечно. Пусть только мужчины помогут мне поставить полотна вот сюда, к шифоньеру, так, так… Остальные назад, на стеллажи, и еще минуточку…
Анна Павловна выбрала два холста из тех, что остались.
— Это вам на память, — сказала она, подвигая картины к Борису и Сереже.
Борис заморгал глазами, схватил руку Анны Павловны, поцеловал ее. Сережа растерянно молчал.
— Представляете, Анна Павловна, — восторженно заговорил Борис, — мы берем билеты на «Стрелу», едем все четверо в Ленинград, приходим в Русский музей на открытие выставки Константина Федоровича, первой его выставки.
— Они обещали, — ответила Анна Павловна, — обещали непременно устроить выставку, выпустить проспект, и мы, конечно, поедем. — Она стала прощаться с Леной и Борисом, Сережа заторопился тоже.
Она осталась одна.
Анна Павловна вымыла посуду, расставила ее по местам, расправила постель на кушетке, погасила в комнате свет, легла, закрыла глаза. Она не уснула, а забылась, устав от хлопот, прошедшего дня, но вскоре пришла в себя. Раскрыв глаза, она бросила взгляд на часы: не прошло и часа…
В прихожей горел свет, значит, забыла выключить. Этого с ней никогда не случалось, во всем и всегда она соблюдала порядок, а тут действительно — какое-то замыкание: упала как подкошенная… Она встала, в ночной рубашке прошла в прихожую, тоже увешанную картинами, посмотрела на утренние астры под портретом молодого Константина. Астры не потеряли своей свежести, в квартире было прохладно, и роса, утренняя роса, которую она несла в цветах, еще не высохла и сверкала под электрическим светом.
Анна Павловна вгляделась в молодого Костю. Сколько сегодня молодых Сережа, Леночка, Борис, Костя… Одна она старуха, добившаяся своего. Кажется, можно радоваться, можно успокоиться, можно спокойно приготовиться к смерти, которая имеет право прийти каждый день, каждый час даже — без всяких предупреждений, без всяких звонков…
Она вздрогнула от резкого, а главное, неожиданного звонка телефона. "Кто бы это мог так поздно?" — подумала она, снимая трубку.
— Я знал, что вы не спите, — торопливо сказал Сережин голос, и Анна Павловна только теперь с удивлением отметила его сегодняшнее поведение тихое и немногословное.
— А если я спала? — спросила она, улыбнувшись.
— Нет, нет, — заторопился Сережа, — я понимаю, вы не можете уснуть, я брожу вот уже целый час, и холст, который вы подарили, оттягивает мне руки… Может, не надо, а? Милая Анна Павловна, как же вы будете жить без них? Это можно еще остановить, Русский музей подождет…
— Что ты, Сережа! — удивилась Анна Павловна. — Я так хлопотала, наконец добилась, ты же прекрасно знаешь… И вдруг!
— Но как же вы, Анна Павловна! — воскликнул он.
— "Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет", продекламировала она. — Ты помнишь Тютчева?
— Вы же смеялись сегодня над ним, — в отчаянии произнес Сережа.
— Приходи, дружок, завтра, — сказала Анна Павловна, — если сможешь, конечно, — она слышала приглушенное дыхание Сережи в трубке, — и мы проводим их вместе.
Он молчал.
— Слышишь? — спросила она.
— Слышу, — отозвался Сережа. — Но как же вы, как же вы? Я бы не смог.
— Я слишком стара, Сережа, — ответила Анна Павловна. — Я страдала уже немало. Я обязана пережить еще это. Последнее. Ты понимаешь?
— Я с вами согласен, — сказал Сережа медленно, — сам желал этого, но все так неожиданно.
Они простились, Анна Павловна отошла от телефона и села на стул возле пианино. Как это сказала она? "Потери всегда неожиданны". Вот она и назвала это потерей… Уйдут картины. Уйдут письма. Потом, возможно, уйдут остальные полотна — в другие музеи. Наконец, придет день, когда она останется одна в квартире с голыми стенами. Она будет лежать на своей кушетке, разглядывать обои с невыцветшими квадратами, прикрытыми прежде холстами, и будет страдать, как страдал Костя. Стены, голые стены… Умом она понимает справедливость сделанного, может даже сказать спасибо сама себе, но душой…
Картины были продолжением Кости, продолжением их общей жизни, а теперь она останется одна, совсем одна…
Анна Павловна облокотилась о крышку пианино, потом откинула ее. Провела пальцами по клавишам и неожиданно запела — едва слышно, чуть ли не про себя:
Я встретил вас — и все былое в отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое — и сердцу стало так тепло…
Она пела этот романс давно, в каком-то спектакле, и вдруг он вырвался из памяти — почему именно этот? Да, кстати! Она встрепенулась, взглянула на свое отражение в пианино, — ну, конечно, это тоже Тютчев. И стихи посвящены К. Б., баронессе Крюденер, в которую он был влюблен, а она вышла замуж за другого…
Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!..
Струна тихо звенела в ночной тишине. Анна Павловна вновь припомнила то, первое, стихотворение, особенно строчку, над которой смеялась: "Живя, умей все пережить…" Вот и Тютчев противоречил себе. Чего ж удивительного, если противоречит она? Да полно, противоречит ли?
Анна Павловна подошла к помутневшему, старому зеркалу в простенке и увидела за стеклом худую старуху с венчиком седых косичек на голове, в длиннополой ночной рубахе, в стоптанных шлепанцах. Она приблизила лицо к своему отражению и неожиданно подмигнула сама себе.
Это рассмешило ее, она отошла от зеркала, приблизилась к стопе стоявших у шифоньера картин, встала возле них на колени, дрожащей рукой, словно по лицу, провела по изображению. Это была сирень, крупные фиолетовые гроздья. Костя любил эту вещь, и искусствовед сразу отобрал ее для музея. Анна Павловна вновь отдернула руку, прикрыла глаза и заплакала.
Она хотела вновь протянуть руку к сирени, сорвать счастливый цветок с пятью или шестью лепестками, положить его в рот и ощутить горьковатый вкус — так полагается по примете, — но не могла…
Утром Макаров проснулся с тяжелой головной болью, как это часто теперь бывало с ним.
Накануне он выпил крепче обычного, присел под забором, да так и уснул на земле, простыл, и теперь у него был насморк. Нос закладывало, по ночам дышал ртом и просыпался потому, что глотка была совершенно высохшая и было душно.
Босиком, в одних подштанниках, Макаров прошел к столу по скрипящим половицам, расплескивая воду, налил дрожащей рукой стакан, опорожнил его крупными жадными глотками, облизал пересохшие, потрескавшиеся губы, сел на приятно холодный венский стул с неудобной спинкой и попробовал вспомнить, что было вчера.
Впрочем, можно было и не вспоминать.
Вчера было то же, что и на прошлой неделе и что тянулось уже почти год.
Он напился.
Вся разница между этими пьянками состояла лишь в том — пил ли он с компанией, с шумом, с разными общими пьяными разговорами на отвлекающие темы или же совершенно один, мрачно хмурясь, постепенно соловея, уставясь в одну точку и думая только о своем, о том, из-за чего все так вышло. В одиночку — это было хуже, потому что всегда кончалось тем, что Макаров напивался до зеленых чертиков и на другой день из-за головной боли приходилось опохмеляться, а опохмеляясь, он не мог удержаться и напивался вновь, и так изо дня в день, пока не попадал в какую-нибудь компанию, отвлекался разговорами, пил меньше — и тогда наступала пауза.
Несколько дней он держался.
Эти несколько дней были сплошной ипохондрией. Макаров плохо работал, начальство косилось на него, вокруг ходили неприятные разговоры о его неполной самоотдаче делу, но впрямую с Макаровым говорить об этом боялись, потому что на захудалой городской ТЭЦ, где он работал, молодых специалистов почти не было и за них держались.
После работы в такие дни Макаров медленно плелся через весь город. Он не замечал ни лета, ни желтых одуванчиков в сквере, ни грачиного крика в тополиных зарослях. Приходя домой, Макаров ложился в кровать и так лежал, то засыпая, то просыпаясь — будто в гамаке качался: вверх-вниз, вверх-вниз. Время текло медленно и нудно, капало по капле, как вода из рукомойника: тук, тук, тук… В такие минуты Макарову казалось, что он заснул летаргическим сном и лежит вот так не один долгий вечер, а вечность, всю жизнь он лежит вот тут, в неприбранной кровати, обросший щетиной.