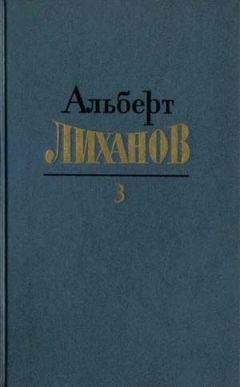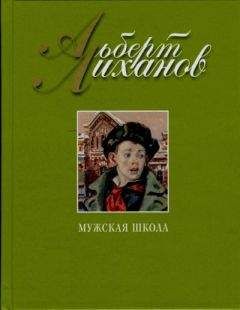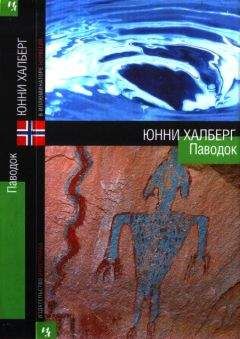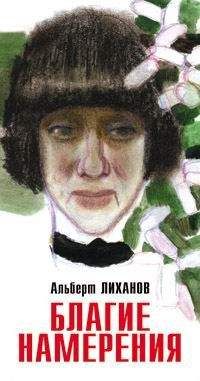Утром, в мятых штанах и несвежей рубашке, он снова шел на ТЭЦ и так держался неизвестно чем несколько дней, пока не запивал снова.
Странно, но в дни, когда он пил, Макаров работал лучше, как-то собраннее. Может быть, это на несколько часов мобилизовывался организм, отвыкший от серьезной, долгой, изнурительной работы, а может быть, сам того не замечая, Макаров возбуждался в предчувствии выпивки, и возбужденность эта была тем двигателем, который заставлял работать.
Приятелей у Макарова было много, очень много, но приятели все больше так, по пьяной лавочке. Идя по улице, он кивал направо и налево, пожимал руки кому-то, останавливался, чтобы сказать несколько ничего не значащих слов, но, вернувшись домой, он всегда оказывался один. И никто не заходил к нему.
Никто.
Раньше, конечно, были друзья. По воскресеньям они, бывало, ходили все вместе на пляж, вечерами шлялись по улицам, толкуя о том и о сем, вдруг вспыхивали неожиданные споры на самые невероятные темы, и они все горячились, и он горячился тоже.
— Ты очень неуравновешенный, — говорила ему потом Маша. — Прямо как пацан.
— Хорошо быть пацаном, — отвечал Макаров и обнимал Машу, но она отталкивала его, злилась отчего-то.
Маше не нравилось в нем мальчишество, не нравился его неуравновешенный характер, не нравилось, что он, способный инженер, работает в какой-то дыре. А потом оказалось, что не осталось ничего, что Маше нравилось бы в Макарове.
— Держи хвост морковкой, старик, — сказала Маша тогда. — Ничего страшного. Мало ли людей встречается на танцплощадке в городском саду, гуляют, внушают себе, что влюблены, а потом расстаются.
Макаров думал об этой минуте. В душе даже готовился к ней. Ему казалось, он огорчится, растеряется, что сердце у него неровно застучит. Но он не огорчился и не растерялся. И сердце стучало исправно.
— Элементарно, — подтвердил он суконным таким голосом тогда. Разошлись, как в море две селедки.
— Люблю оптимистов, — ответила Маша, приподнимаясь на цыпочках и целуя его. — Ну, я пошла.
Он кивнул, и она действительно пошла вдоль улицы, самостоятельная женщина с сумочкой, блестевшей в свете фонарей.
Макаров не стал даже смотреть ей вслед. Ему было неинтересно больше смотреть на нее. Ни вслед, ни в лицо.
Он пошел домой и лег, не включая света.
Он хотел уснуть сразу, но был душный жаркий вечер, тяжело дышалось, и, ворочаясь, он искомкал всю простыню, но так и не уснул. Тогда он оделся и пошел к ресторану.
Дверь в ресторан была закрыта, в нее ломились забулдыги, и Макаров присоединился к ним. В ресторан их так и не пустили, но один из ломившихся, тощий, голенастый мужик с провалившимися щеками, кивнул Макарову, велел дать деньги и крикнул швейцару:
— Эй ты, борода!
Бородатый швейцар, поломавшись, все устроил, и Макаров пошел с голенастым забулдыгой в скверик напротив ресторана.
— Надстройка? — деловито спросил голенастый. Макаров не понял. — Ну, итээр?
— Да, — ответил Макаров, усмехаясь. — Итээр.
Они расстались тогда, и встреча эта ничего не значила для Макарова, кроме разве того, что наутро болела голова. Но разговор о небазисной принадлежности иногда всплывал из закоулков памяти, и Макаров усмехался, как тогда.
Конечно, кому нужна такая надстройка, как он…
Нет, эта мысль приходила без всякой связи с Машей, нет. И без всякой связи с бывшими друзьями, которые исчезли неизвестно куда. Просто было тоскливо, что все так, выходит. Ведь, говорят, он приличный инженер, толковый, а тут какая-то ТЭЦ. И кому он нужен, кроме этой теплоэлектроцентрали, — слово-то, подавишься, пока скажешь…
Ну а Маша…
Скажи ему кто-нибудь, обвини в том, что он запил из-за Маши, он бы рассмеялся от души. Из-за Маши? Какая глупость.
Все, что было у них с Машей, было тоскливо и неинтересно.
Познакомились на танцах. Некоторые считали, что они скоро поженятся, но это лишь разговоры. Настоящей близости так и не было. Расставались на неделю, а встречались так, будто вчера виделись. Доведись по разным городам разъехаться, так бы и не вспомнили, может. Маша в общем была эпизодом. Нет, Маша тут ни при чем. Вместо Маши будет Глаша. Надо только пойти на танцплощадку в городской сад. А потом выбросить месяц жизни.
Жалко, что ли?
Макаров ворочался, внутри было нехорошо, и венский стул скрипел под ним на все голоса. Есть, как всегда по утрам, не хотелось, и Макаров, прихватив кружку, вышел в сени, где стояло ведро с ледяной колодезной водой. Эта вода была не то что в графине — зубы онемели от холода и даже дышать стало как будто легче.
От выпитой воды захорошело вчерашнее, приятно закружилась голова, снова захотелось спать.
Макаров пошел обратно в комнату и наступил на газету. Почтальонша бросала ее в дверную щель — Макаров все не мог собраться купить ящик, и, увидев его, почтальонша не пропускала случая поругаться. "Если письмо придет и я его брошу, а оно потеряется, — говорила она, — кого винить будете?"
Макаров кивал головой, обещал купить ящик и улыбался. Откуда ему письма, от кого? Да и не нужны они вовсе.
Он подобрал газету, вошел в комнату и прилег на кровать.
Макаров развернул газету. На первой странице в ней была напечатана передовая — прямо по адресу. Она называлась очень персонально — "Твой долг, инженер!" — и Макаров принялся ее читать.
В статье опять говорилось о полной самоотдаче производству, и, засыпая на половине статьи, Макаров подумал про себя, что да, что действительно самоотдача производству — это важный долг.
* * *
Его будто кто-то толкнул в плечо.
Макаров проснулся и не понял, где он. Вплотную со всех сторон его обнимали странные полосатые обои. Обои были светлые и яркие, так что даже слепило глаза.
Макаров пошевелился, и обои вдруг съехали вниз, открыв знакомый потолок с разводами темных трещин. Он усмехнулся — на нем была газета.
Макаров поднял ее с полу, посмотрел на передовую, но больше читать ее не хотелось, и он стал смотреть газету с конца, с кино.
В кино шло все старое, и машинально Макаров стал разглядывать другие объявления. Требовались слесари, кто-то предлагал обучить печатанию на машинке десятипальцевым способом.
И вдруг Макаров вздрогнул. В самом нижнем углу газеты в черной траурной рамке коллектив учителей и учащихся средней школы № 17 с прискорбием извещал о смерти старейшего учителя, орденоносца Ивана Алексеевича Метелина.
Макаров дернулся и облокотился о подушку. Школу № 17 он кончал когда-то, а Иван Алексеевич Метелин учил его математике в пятом, шестом и седьмом классах.
Дальше к ним пришла математичка, Вобла, как звали ее старшеклассники за сухость в теле и в обращении с учениками. Но Вобла забылась, встреть ее сейчас Макаров на улице, и не узнал бы ни за что, пожалуй, а вот Иван Алексеевич будто живой.
Будто живой, а его уже нет…
Смысл траурного извещения доходил до Макарова не сразу, а какими-то толчками.
Давным-давно забытые, выплывали лица, имена, события, и, вспоминая школу, шумный коридор на перемене, в конце которого возвышалась фигура старого учителя, Макаров с содроганием вдруг подумал о том, что все это уже необратимо, что все это никогда не повторится, и необратимость эту подчеркивало жирными черными рамками траурное извещение.
Память походила на театральную сцену: кто-то дергал за веревку, соединенную с занавесом, и он рывками, будто нехотя, раздвигается, приближая к Макарову старика математика. Учитель как бы выходил из тьмы, становясь все ярче и живей. И это несоответствие — почти осязаемое существование учителя в нем, Макарове, и извещение в траурной рамке, этот порог между прошлым и реальностью, заставили наконец Макарова понять, что учителя нет. Что все, что он помнит, — уже не материально. Что стоит забыть ему Ивана Алексеевича, и этого человека для него больше не будет. Он уже не встретит Ивана Алексеевича на улице. Он уже не увидит его никогда. Ничто, кроме него самого, не напомнит ему об учителе Метелине…
Макаров встал с кровати и прошелся по прохладным желтым половицам. Голова болела по-прежнему — он знал, что требуется для лечения, — и стал собираться.
В карманах мятых брюк нашел остатки от зарплаты. В этом смысле все было в порядке. Макаров поискал расческу, чтобы навести порядок на голове, но расческа куда-то провалилась, тогда он пригладил волосы рукой и вышел на улицу.
В автоматизированной пивной стоял ровный гул, возле высоких столиков с мокрыми мраморными покрытиями толпились люди, слоями в воздухе плавал сизый дым. Макаров постоял недолго около буфетчицы, менявшей бумажные деньги на двугривенные, и с блюдечком соленых сушек в одной руке и пивной кружкой в другой пристроился на подоконнике у окна, подальше от шумных разговоров.
Он медленно тянул пиво, и Иван Алексеевич не выходил у него из головы.