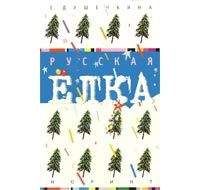Сергей Прокофьевич искал себе валенки. Ботинки его совсем развалились. Валенки ему нужны были старые, поношенные, очень крепкие, такие, чтобы в них можно было много ходить.
Сергей Прокофьевич, наконец, встретил валенки такие, какие были ему нужны. Большие, черные, подшитые кожей, с двумя кожаными заплатками. Сергей Прокофьевич уже полез за деньгами.
И вдруг Мака увидала Тамару. Тамара в своем красивом розовом платье улыбалась Маке и протягивала к ней руки. Мака бросилась к ней.
— Тамара! — крикнула она и ухватилась за рукав старушки, которая держала Тамару.
— Что ты, деточка? — удивилась старушка. — Что ты, деточка, кричишь?
— Это моя Тамара, — задыхалась Мака. Ведь это была Тамара. И кончик носа у нее был отбит. Тамара нашлась. Значит, могла найтись и мама!
— А ну-ка, скажите, барыня, откуда у вас эта кукла? — строго спросил Сергей Прокофьевич. Валенки, черные валенки, подшитые кожей, уже ощупывал другой человек.
— Не эта барыня тебя к маме провожала? — спросил Маку Сергей Прокофьевич.
Мака взглянула на старушку. Нет. То лицо с золотыми зубами она сразу бы узнала.
— Это моя Тамара, — только повторяла Мака и сжимала в руке замерзшую Тамарину ногу.
— Ну, хорошо, — сказал Сергей Прокофьевич, — твоя так твоя. Сколько стоит? — важно спросил он старушку.
Тамара стоила дорого. Сергей Прокофьевич отдал старушке толстые пачки разноцветных денег. Старушка исчезла в толпе. Мака обняла Тамару.
— Теперь пойдем купим валенки, — сказала она, и глаза ее сияли. Сергей Прокофьевич взглянул на свою ногу. Любопытные пальцы высовывались из ботинка.
— Нет уж, — сказал он, — я раздумал. Не куплю я валенки. Что ноги парить-то! Отдам в починку башмаки, да и все.
Сергей Прокофьевич внимательно рассматривал конверт. На нем были какие-то наклейки, печати, пометки, марки наполовину отлепились…
— Что мама пишет? — чуть дыша от волнения, спросила Мака.
Сергей Прокофьевич продолжал вертеть в руках конверт.
— Ничего нам мама не пишет, — сказал он и положил письмо на колени. — Это наше письмо вернулось обратно. Эк, оно путешествовало! Даже смотреть жалко. Где только не побывало! И у Деникина, и у Гетмана, и у Махно, и у Шкуро, и у немцев, и в Советской России, и в самом Петрограде. А вернулось к нам опять, и ничего мы с тобой не узнали. Вот только наклеечку добрая душа в каком-то там петроградском почтовом ведомстве сделала: «Адресат по данному адресу не проживает». Это по-нашему, по-почтовому, так называется. А по-обыкновенному, по-русски, это значит: нет там твоей мамы. Вот что, птаха-бидолаха. Не нашло письмо нашу маму. Не нашло.
Это был очень скверный вечер. В маленькой комнате, несмотря на то, что топилась печка, было холодно. Мака дрожала в своем горошковом платье, и Сергей Прокофьевич несколько раз пил свое лекарство из бутылочки. Забытая Тамара лежала вниз головой.
— Что ж нам делать? Что ж нам делать, птаха? — говорил Сергей Прокофьевич и, положив голову на стол, на свои руки, о чем-то долго думал.
Потом он вытащил из шкафа чернильницу и ручку и стал что-то писать. Он спрашивал у Маки, как звали ее папу, не помнит ли она, когда это было, что мама получила маленькую бумажку и плакала… Мака помнила. Тогда была елка.
Однажды рано утром Сергей Прокофьевич одел Маку, поцеловал ее осторожно в макушку и стал перед ней на колени.
— Ты прости меня, птаха, что я тебя в клетку отдаю. Не могу я тебя у себя держать. Кормить мне тебя нечем. Одевать не во что. Ну, как я могу тебя вырастить?
Сергей Прокофьевич одел Маку, и они пошли, похрустывая дырявыми башмаками по снегу. Тамару Сергей Прокофьевич завернул в газету и в тряпочку, положил в сундук и запер на ключ:
— Будет цела и благополучна. Будет тебя дожидаться, птаха. Думаю, все хорошо будет. Не может жить человек так, чтобы на хорошее не надеяться.
Они остановились перед дверью, над которой висел трехцветный флаг. Тяжелая дверь с трудом открылась. Красная бархатная дорожка лежала на лестнице. В большой светлой комнате стояли стулья, обитые таким же красным бархатом, и Сергей Прокофьевич долго не решался сесть на такой красивый стул. Наконец он сел и засунул подальше под стул свои ноги в дырявых башмаках.
Наконец открылась дверь, взвилась вверх красная бархатная занавеска, и громкий голос сказал:
— Куцаков!
Сергей Прокофьевич сорвался со стула, схватил Маку за руку и потащил ее в дверь.
За дверью в глубоком кресле за большим письменным столом сидела немолодая красивая дама. Она поднесла к глазам два стеклышка на серебряной ручке и посмотрела на Маку.
— Вы о чем просите? — спросила она таким голосом, как будто Сергей Прокофьевич уже давным-давно ей надоел.
Сергей Прокофьевич стал топтаться на полу, стараясь закрыть свой дырявый башмак другим, целым. Он стал прятать руки в рукава и жевать свои усы.
Он положил перед дамой какие-то бумаги и сказал, что все на них видно как на ладони.
— Прапорщик Черкасов… Убит в декабре 1916 года… Девочка потерялась… Никаких документов не имеется.
— Вы понимаете, — сказала дама, — вы понимаете, что я должна вам на слово верить! Но я вхожу в ваше бедственное положение… — Дама строго оглядела Сергея Прокофьевича от дырявых ботинок до плешинки на макушке. — Я сделаю. — Дама закрыла глаза и вздохнула. Потом она так же оглядела Маку. — Ах, бедные сиротки! — сказала она, закатив — глаза. — Ах, бедные сиротки! Как я люблю что-нибудь делать для них! Ах, я была бы совсем несчастна, если бы на свете не было сирот.
Дама что-то написала на маленькой бумажке.
— Вот вам направление. Ведите девочку. Сумская улица. Приют для детей — сирот военнослужащих.
Дама подняла свою руку и поднесла ее прямо к Макиным губам.
Мака отшатнулась от этой руки, удивленно взглянула на нее и крепко пожала двумя руками. Дама вырвала свою руку.
— Невоспитанная девочка, — сказала она. — Ты даже благодарить не умеешь.
— Спасибо, — сказала Мака. Она не понимала, за что нужно благодарить.
Дама замахала на нее руками и откинулась на спинку кресла.
— Идите, идите! — закричала она.
Мака выскочила из комнаты. За ней, пятясь задом, кланяясь, вышел Сергей Прокофьевич.
— Ах, паралик тебя расшиби! — тихо-тихо сказал он, спускаясь по лестнице. — Птаха ты моя, идем в приют. Будут тебя там поить, кормить, грамоте учить, казенными розгами бить, казенную мудрость в голову вбивать.
Серый дом стоял за серым забором. По дорожке за забором шли девочки в длинных узких шубах, на головах у них были надеты остроконечные капоры, на ногах остроконечные ботинки с торчащими ушами.
Девочки шли попарно, держась за руки. Медленно и скучно шли они навстречу Маке, и только решетка забора отделяла их от нее.
Но вот скрипучая железная калитка открылась. Мака вошла во двор, железная калитка за ней стукнула, и Мака поднялась по ступенькам серой лестницы в серый детский приют.
Старенькое, заплатанное Макино белье, платье в горошках, чулки, которые штопала еще мама, все лежало в узелке на коленях у Сергея Прокофьевича. Он неловко сидел на краешке стула, и его форменные брюки блестели, натянувшись на острых коленях.
Мака ежилась в холодном, жестком белье. Длинное платье торчало вокруг нее. Остроносые башмаки сжимали ноги. А голову Маке обрили. Обрили наголо. Мака трогала рукой свою голову и не узнавала ее. Тепленькие, мягкие волосы валялись на полу, и няня подметала их вместе с мусором.
— Внучка небось? — спросила няня у Сергея Прокофьевича, остановив щетку у его ног.
Сергей Прокофьевич махнул рукой, и слеза повисла на кончике его носа.
— Вижу, вижу, — сказала няня. — Ох-ох-ох! — вздохнула она.
— Новенькая готова? — крикнули из соседней комнаты.
Сергей Прокофьевич вскочил со стула, уронил на пол узелок, схватил руками голую Макину голову и крепко-крепко поцеловал Маку между глазами. Потом он всунул в Макину сжатую ладошку липкий сверточек.
— Прощай, птаха, — сказал он, нагнулся, поднял узелок и выбежал из комнаты. Липкий розовый сверточек Мака спрятала в карман.
Тихие и серые, как мыши, окружили Маку в спальне девочки. Шуршали платья и чернели фартуки. Девочки стояли молча. Их было много. Маке они все показались одинаковыми. У всех были бритые головы, у всех были одинаковые платья.
— Холодно как! — сказала Мака.
Девочка с рыжим пухом на голове подошла к Маке.
— У нас не топят. Но это ничего. Хуже всего наша классная дама.
Прозвенел звонок. Классная дама вошла в спальню. Она была худая и длинная. И лицо у нее было длинное, похожее на лошадиную морду. Но у всех, даже у самых некрасивых, лошадей бывают темные и печальные глаза. У нее же глаза были какого-то неопределенного цвета, водянистые, с красными припухшими веками.