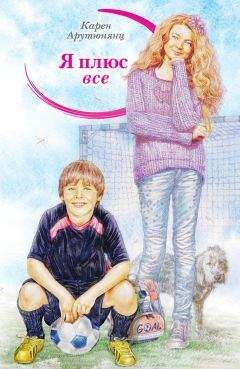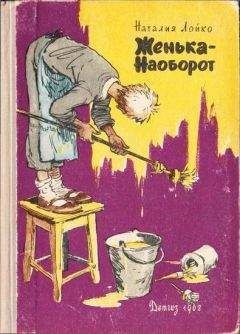– Что с тобой? – спросил я.
Жанка открыла глаза и с трудом ответила:
– Мне больно…
– Где? – крикнул я.
– Нога… – сказала Жанка.
Я потрогал Жанкину лодыжку.
– А-ай! – завопила Жанка.
– Ничего страшного, – сказал я. – Подвернула. Просто очень сильно. Давай-ка вставай! Пошли к нам. Только осторожно… Надо лёд приложить, а потом перебинтовать. Не бойся… Потерпи немного…
– Да подожди ты! – разозлилась Жанка. – Куда ты меня тянешь?! Я так быстро не могу!
Мы доковыляли до нашего подъезда.
Покорили четвёртый этаж…
Я открыл дверь. Помог Жанке войти и сесть на стул в прихожей.
– Сейчас, – сказал я и побежал за льдом.
Он у меня всегда в холодильнике. На всякий случай.
– Ай! Ай! Ай! – запричитала Жанка, когда я приложил к лодыжке лёд.
– Терпи, терпи, – сказал я.
Жанка послушно умолкла.
Я принёс мокрое полотенце и вытер Жанке лицо, руки, шею. Отряхнул ей волосы. Она же была вся в пыли, в земле.
Жанка смотрела на меня, как щенок. Большими глазами.
Вдруг она сказала:
– А я тебе нравлюсь.
Я ничего не ответил.
– А ты меня любишь, – сказала Жанка.
Я снова промолчал.
Потом Жанка сказала:
– Ой, что это у тебя? На голове! Нагнись! Я нагнулся.
Жанка поцеловала меня в щёку и сказала: – А мы поженимся!
Я снова ничего не сказал.
Потом я перевязал Жанке ногу. Хорошо перевязал. И позвонил Жанкиному дяде. Чтобы он приехал за ней на машине.
Не мог же я нести её на себе по всему нашему району!
Даже если это моя будущая жена.
Мама стояла у окна и плакала.
– Мама, – сказал я. – Не плачь…
– Ну как не плакать? – лицо у мамы сморщилось в кулачок. – Вкалываем, вкалываем, а толку никакого. Ещё десять дней до зарплаты! Что мы будем кушать?!
Папа что-то пробормотал и вышел из комнаты.
– Всё у нас будет! – сказал я. – Выкрутимся, как всегда!
– Вот именно – «как всегда»! – снова заплакала мама. – Что у нас будет?! Оладьи с ложечкой сметаны?!
– И прекрасно! – крикнул папа из кухни. – Растолстели, а теперь похудеем!
– А Гоша?! – крикнула мама.
– Я тоже буду кушать оладьи! – сказал я. – Ты такие вкусные оладьи готовишь!
– Правда? – спросила мама, сморкаясь в платок.
– Конечно! – сказал я.
– Тебе приготовить оладьи? – спросила мама и поцеловала меня в ухо.
Какая у неё мокрая щека! Вся в слезах! Бедная мама…
– А я что, рыжий?! – крикнул папа.
– Я приготовлю тебе оладьи, – сказала мне мама, не обращая внимания на папины выкрики.
– А я пойду в магазин и куплю кефир! – папа появился в дверях.
– Интересно, – спросила мама, – на какие деньги?
– Вот на эти! – сказал папа и показал пять долларов.
– Откуда они у тебя? – спросила мама.
– Подали! – говорит папа. – На паперти!
А потом рассказал:
– Сегодня Бибилашвили поспорил со мной, что я не смогу выпить банку воды! Трёхлитровую! Махом! На эти самые пять долларов!
– Ну и что? – ужасается мама.
– Вот я и выпил! – просиял папа.
И отправился за кефиром. А я вместе с ним.
Доллары мы обменяли в Сбербанке. Зашли в магазин. Набрали в корзину: кефир, пять чудо-сырков и кукурузные хлопья без сахара. И ещё сдача осталась – рубль.
Кефир, сырки, хлопья. Это наша потребительская корзина на сегодняшний день. Разве плохо?!
А завтра будет видно. До завтра ещё надо дожить.
– Приказано – жить! – скомандовал за дверью полковник-дирижёр Борис Моисеевич, Гошин дед.
– Чего это он? – испугался Баран и пригнулся.
– По телефону разговаривает, – объяснил Гоша. – С ветераном.
– А-а-а, – Баран с уважением поглядел на дверь. – У меня дед тоже воевал!
– Мой не воевал, – сказал Гоша. – Его в суворовское училище взяли. Как сына Героя Советского Союза, погибшего на фронте.
– Надо же! – Баран выпрямился.
– Как же твой дед воевал? – спросил Гоша. – Сколько ему было лет?
– Да он пацаном воевал, – сказал Баран. Он сыном полка был.
Ну всё! Баран разговорился, теперь его не остановишь!
– Мне мамка рассказывала, – продолжал Баран, – я сам деда никогда не видел… Он с кухней ездил. С этой… с полевой кухней. Так вот, случай был! Везут они кухню. Вдруг стрелять начали. Они с дороги – в кусты! А там два немца с автоматами. Обрадовались ужасно! Кричат: «Дафай! Дафай! Каша! Русский каша – карашо! Гут! Гут!» А наших – только повар и мой дед – пацан! Повар – руки кверху, а дед встал перед кухней и кричит: «Не пущу! Это нашим!» Немцы сначала обалдели, а потом заржали. Дали деду под зад. Крикнули повару: «Ты – плохой зольдат! Киндер – хороший зольдат!» Поржали ещё… И отпустили!
Весело Баран рассказывает.
Я смеюсь так громко, что начинаю икать.
– Ладно, – говорит Гоша. – Мы репетировать будем или не будем?
– Ик! – отвечаю я. – Будем.
– А может, не будем? – предлагает Баран. – Пойдём пошатаемся! Такая погода!
Погода прекрасная! В окне, как в красивой раме, висят белые облака на фоне голубого неба и совсем вдали летит маленький самолётик…
– А пойдёмте к брательнику! – вдруг говорит Баран.
Мы с Гошей переглядываемся.
– Ик, – напоминаю я. – Он же в тюрьме.
– Ну и что? – говорит Баран. – А мы ему передачу понесём. Я, вообще-то, не хотел раньше времени говорить… Нехорошая примета… Короче, с него, наверное, обвинение снимут. Не воровал он бочку спирта!
– Чудесно! – радуется Гоша.
– Это отец твой разузнал, – говорит мне Баран.
– Папа? – удивляюсь я. – Ик!..
– Да, – говорит Баран. – Прямо как этот… частный детектив! Он чего-то там раскопал и всё, что надо, этому… следователю сообщил. Скоро выпустят брательника! Не воровал он!
– Ура! – закричал Гоша.
– Ура! – завопил я. – А что мы ему понесём?
– Имеется яблочный пирог! – сообщил громкий голос из-за двери.
Я засмеялся.
Добрый дед у Гоши – военный дирижёр Борис Моисеевич. И слышит прекрасно.
А Гоша утверждает, что дед глуховат на одно ухо.
Мы по уши в грязи.
Льёт как из ведра. Грохочет гром, бьют по крышам молнии. Гроза!
Мы носимся с Женькой-Пузырём по нашему пустырю. Лупим по мячу изо всех сил. И смеёмся, как ненормальные.
Нас двое. Больше таких сумасшедших не найти. Во всём квартале не найти. Во всём городе. Во всём мире. Мы – фанатики.
Из-под мяча, из-под наших ног да с нас самих летят брызги во все стороны! А мы не можем остановиться, бегаем и бегаем за мячом – от ворот до ворот и назад.
Я задеваю кочку. Лечу головой в лужу.
Женька пытается дотянуться до мяча, но сам поскальзывается и присоединяется ко мне.
Мы барахтаемся в мутной воде.
– Который час?! – спрашиваю я, доползая до Женькиных ворот.
– Откуда я знаю?! – отвечает Женька. – Может, час, а может, и больше!
Пошатываясь от усталости, я встаю на ноги и перекатываю мяч через воображаемую линию ворот.
– Гол, – говорю я. – Двадцать четыре – двадцать три в мою пользу!
– Всё! – трясёт Женька мокрой головой. – В школу пора! Время! Если я и сегодня опоздаю, Ракетка отца вызовет…
– Да откуда она узнает? – говорю я. – Первый урок – Фрекен Бок!
Фрекен Бок – учительница немецкого языка.
– Нет, всё! – говорит Женька. – Капут!
– Ладно! – выдыхаю я. – Но я выиграл!
– Выиграл, выиграл… – соглашается Женька.
Дома первым делом я смотрю на часы.
Ёлки-палки! Всего семь минут до звонка!
За эти четыреста двадцать секунд я успеваю: прыгнуть под душ, кое-как обтереться полотенцем, натянуть на себя одежду, подхватить рюкзак, закинуть в него яблоко, запереть квартиру, сбежать по лестнице вниз, домчаться до школы (вдоль забора до ворот и назад к чёрному ходу, потому что на парадном всегда висит огромный замок), взбежать на второй этаж, ворваться в класс. И, заметьте, не в качестве опоздавшего!
Следом за мной входит наша немка. Она старенькая, худенькая и маленькая, почти с меня ростом. Но кто-то прозвал её Фрекен Бок. И вот почему.
Иногда, не так уж и часто, где-то раз в месяц, Фрекен Бок спрашивает у нас:
– Немецкий или шведский?
Те, кто терпеть не могут немецкий, вопят:
– Шведский, шведский!
На уроках немецкого языка наша странная добрая немка ставит даже «бананы». А на уроках шведского, который в школах не изучают, мы получаем одни пятёрки. Потому что шведский – это просто так. Для души.
Фрекен Бок обучает нас шведскому как бы подпольно. Это наш общий секретик, о котором больше никто не знает.
Фрекен Бок ужасно любит, когда мы выбираем свенск – шведский. В институте Фрекен Бок изучала два языка – немецкий и шведский.
– Но шведский, – утверждает Фрекен Бок, – намного интереснее немецкого! Это удивительный язык!