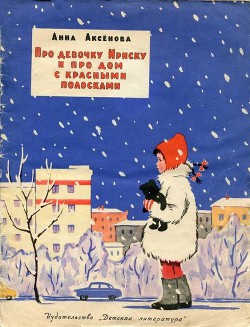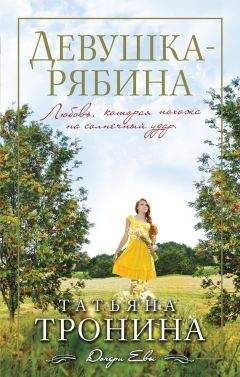как там моя старушка живет. Приехал в сорок седьмом… — Дядя Никифор с трудом выталкивал из себя слова, — а тут одни печи. Встретила меня и в самом деле старуха. Одинокая. Словом, сирота. И ночью, когда я один лежал, дал себе клятву: обездолил я ее, хоть и по глупости, по малолетству, а все-таки обездолил, так теперь будет она у меня самый первый человек. Мать. Когда своей семьей обзавестись собрался, ее, конечно, к себе вызвал, а там возьми и скажи:
— Я тебе когда-то в жизни помешал, теперь твоя воля: скажешь — не женись, не нравится, мол, невеста или еще что, — не женюсь.
Она — ох и хитрая — даже удивилась как будто: «Чем же ты мне помешал, уж не фельдшера ли вспомнил? Так это я сама за него не схотела: слишком умный для меня. Я-то ведь на грядке выросла». Поняла, чем я мучаюсь, успокоить захотела. Только не успокоила Нечиста моя совесть перед ней.
Дядя Никифор кончил свой невеселый рассказ. Он ждал теперь, что скажет Митька.
А Митька молчал, не знал, что сказать. С одной стороны, конечно, плохо, что дядя Никифор помешал Вовкиной бабушке, когда она молодая была, с этим фельдшером. Мало у нее горя было? А с другой стороны, при чем тут мать? У матери-то ведь никакого горя не было, так чего ей? И сын у нее не приемный, а свой собственный. И немолодая уже, скоро сорок лет. А будешь спорить — эгоистом назовут, скажут, что жизнь матери испортил…
— Так как же? — напомнил дядя Никифор. — Давай начистоту. Мы с твоей матерью любим друг друга, хотим пожениться. И главное тут препятствие — ты. А сам тоже лет через пять учиться уедешь или в армию пойдешь.
— Ее дело, — угрюмо сказал Митька. — Как хочет, так пусть и делает. Только я никуда пока не собираюсь. Пусть одна, если хочет. Мне и здесь хорошо.
Так ходили они и говорили часа два, а когда вернулись домой, мать все так же сидела на крыльце, ждала.
Она взглянула на Митьку, на дядю Никифора и все поняла. Улыбнулась виноватой, счастливой улыбкой, обняла одной рукой Митьку, другую протянула дяде Никифору.
— Спокойной ночи.
— Он парень умный, я это давно знал.
Дядя Никифор растрепал ему вихры. Митька не отодвинулся, хотя сейчас, когда рядом такая теплая, такая своя стояла мать, ему больно было подумать, что ее придется делить с кем-то.
— Пошли спать, — позвала мать. И оттого, что голос у нее был счастливый, Митьке стало еще больнее, и он поскорее забрался в постель, спрятал голову под одеяло.
Отец вторую неделю лежал в больнице. Дома стало приветливее, чище и уютнее. Мать меньше ругалась, а один раз так даже вместе с Тайкой чуть не до слез хохотала над Юрочкой, как он воевал с петухом. Петух все норовил прыгнуть Юрочке на голову, а Юрочка прутом отгонял его. Не сдавались ни тот, ни другой, пока мать наконец не подняла Юрочку на руки. «Ах ты, аника-воин», — и понесла в избу.
Тайка эти дни ходила присмиревшая и то и дело думала об отце, представляла, как он придет совсем-совсем другой. Иногда она представляла про себя, как отец с матерью разговаривают ласковыми добрыми голосами, как вместе все ходят в кино. Тайка даже была согласна, чтоб ее не брали, пусть бы только вместе сами ходили.
Ее мечты шли еще дальше. Вернется отец, сядут они как-нибудь с Тайкой на крыльцо и разговорятся по душам. «А что, — скажет Тайка, — сидеть нам здесь, что мы, грибы, что ли, какие, чтоб всю жизнь на одном месте. Взяли бы да и поехали, ну хоть бы в тот же Мурманск. А то и еще куда. Ездят же люди. Целые поезда народом набиты».
«А что ж, — скажет отец, — чего и не поехать, вот поговорю с Никифором и махну с ним в Мурманск, потом и вас выпишу». — «Нет уж, — скажет Тайка, — ты нас сразу бери, а то мало ли чего, глядишь, без нас еще выпивать начнешь». — «Н-но, — скажет отец, — поговори…» А потом подумает и скажет: «А что ж, может, и вместе». Выйдет мать, он и ее спросит: «Как смотришь, чтобы в Мурманск махнуть?» А мать, наверное, сначала испугается, а потом заплачет от радости.
Тайка ходила по деревне и чувствовала, какая она легкая, как ноги ее едва касаются земли, и ей казалось, что ходит она здесь последние деньки: почему-то представлялось, что жизнь ее должна круто перемениться, а что за перемена, если здесь оставаться.
Встреча с Митькой произошла неожиданно. Тайка лазала на яблоню, чтоб обобрать последние яблоки. Яблоня стояла на их участке, но почти все ветки перевесились на улицу, и поэтому Тайка, кончив свое дело, спрыгнула прямо на дорогу. Спрыгнула и испугалась: лицом к лицу оказалась с Митькой. Тайка струхнула, но вида не подала.
— Хорошо, на голову тебе не слетела.
Она придерживала фартук, наполненный яблоками, и Митька вдруг попросил:
— Дай яблочка.
Тайка развела концы фартука.
— Выбирай.
Собственно, яблока ему вовсе и не хотелось — своих некуда девать, и Митька сам не знал, зачем попросил, как-то так само получилось. Наверное, от неожиданности: ни с того ни с сего и бац — перед ним Тайка. Он даже не сразу узнал ее. Может быть, потому, что никогда так близко не видел? Глаза у нее были зеленые и блестящие, как трава после дождя. И голос, когда она заговорила, был совсем не скрипучий. А в общем-то, наверное, очень одиноко было последнее время Митьке.
Они постояли, помолчали немного и, так и не найдя, о чем поговорить, пошли каждый в свою сторону. Пройдя несколько шагов, Митька оглянулся, и в этот ясе момент оглянулась и Тайка.
Митька шел и думал, как все здорово изменилось: и деревня стала какая-то тихая, и люди — озабоченные, торопливые, даже Тайка и то другая совсем.
Невесело эти дни было и Вовке. Отец уехал, а перед отъездом у них состоялся разговор: отец сообщил ему, что хочет жениться на тете Наталье. Вовке она всегда нравилась, и он даже в первую минуту обрадовался, что все они будут жить вместе и в Мурманск поедут вместе, но потом, пораздумав, понял, что в этом кроется причина Митькиного охлаждения к нему, — раз; что отец не так, как всегда в важных случаях, посоветовался с ним, а как будто Вовка посторонний какой-то: сообщил, и все — два; бабушка тоже ходила вроде