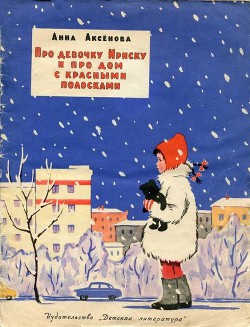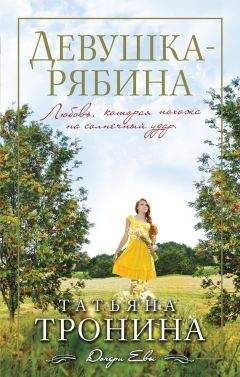бы задумчивая, и это было — три. В общем, достаточно, чтоб взяться за ум, тем более что через пару дней в школу. А седьмой класс это не шуточки.
Случалось ему не раз столкнуться на улице с Митькой, но оба здоровались и проходили, как чужие. И почему-то Вовка чувствовал себя виноватым. Вообще-то ему очень хотелось подойти к приятелю, заговорить, но он не знал, как тот к этому отнесется, вдруг так отошьет — он это умеет! — что надолго запомнится. И не подходил. И не знал, что Митька мучительно ждет, чтоб Вовка подошел, потому что больше всего ему сейчас не хватало друга. Но первым подойти ему не позволяла гордость: как-никак, дядя Никифор берет их, а не они его. Так и расходились, каждый думая, что именно другой не хочет прежней дружбы.
* * *
В школу Вовка пришел одним из первых. Он вошел в пустой класс, выбрал парту в колонке у окна и сел с краю. Расчет его оказался верным: скоро все места у окон были заняты и осталось только одно, охраняемое Вовкой.
Митька вошел, огляделся и направился к нему.
— Свободно?
— Конечно, кто займет, — заспешил Вовка.
Митька сел, стал тщательно копаться в портфеле, перекладывать зачем-то тетради из одного отделения в другое. Помалкивал.
— Расписание видел? — спросил Вовка.
— Ну?
— Ох и достанется нам этот год! По шесть уроков каждый день.
— На то и седьмой класс, — солидно сказал Митька.
Мир, кажется, был восстановлен.
На первом уроке было тихо, никто не шептался, не заглядывался в окно, никто никого не щелкал по затылку, не перекидывался записочками.
Митька тихонечко оглядывал ребят, и они казались ему повзрослевшими за лето, вон у Кольки Лобанова вроде даже усики пробились. Правда, Колька постарше их всех, но все-таки… Взглянул и на Тайку и удивился, какой у нее деловой вид.
Он и не подозревал, что Тайка дала себе клятву получить в этой четверти столько четверок и пятерок, чтоб отец, когда вернется после лечения, сразу бы увидел, что у него семья ничуть не хуже других. Юрочка и так хороший, только надо его почаще умывать и рубашонки менять. Ну, а мать… Тайка вздохнула. Глядишь, за это время, может, и мать вспомнит, что когда-то красивой была.
Она так погрузилась в свои думы, что не замечала, как весь второй урок Митька не сводит с нее глаз. Случилось же вот что: ко второму уроку во двор школы приплыло солнце, оно заглянуло в их класс и прикоснулось к Тайкиной голове. Как будто кто чиркнул спичкой — волосы у Тайки вспыхнули, и голова стала большим золотым шаром. Был виден каждый волосок в отдельности и каждый казался золотой проволочкой.
Митька рассматривал Тайку, и все в ней казалось ему сегодня странным: и то, как она макает ручку в чернильницу — изгибает руку, как утка шею, и то, как она поворачивает голову — на затылке получается ровная бороздка, и видно маленькое ухо. Глядя на это ухо, становилось понятным, почему говорят «ушная раковина». Действительно, Тайкино ухо было похоже на розовую ракушку.
Митька повернулся посмотреть, кто еще смотрит на Тайку, но почему-то никто не смотрел.
После уроков Вовку попросила задержаться библиотекарша, и как-то так получилось, что когда Митька вышел из школы, то никого из своих ребят не увидел. По дороге далеко впереди шла одна только Тайка. Митька не думал ее догонять, но она шла так медленно, что вскоре он поравнялся с ней. Пройти молча мимо, как сделал бы это день-два назад, он сегодня уже не смог и потому небрежно спросил:
— Ты чего это как на похоронах бредешь?
— А куда торопиться, — словно они никогда не ругались, не дрались, ответила Тайка. — Когда бежишь, ничего не услышишь, не увидишь.
— А чего тут слышать, чего видеть?
— Послушай, а тогда и говори.
Тайка остановилась. Остановился и Митька, стал слушать.
Где-то далеко урчит трактор. Просвистел в воздухе самолет. Кто-то крикнул у школы. Слова были непонятны, по голос длинный, звонкий…
Митька на минуту представил, что было бы, если б не было никаких звуков. Он даже поежился, так стало неприятно. А ведь раньше и внимания никогда не обращал, сколько их вокруг…
— Ну как? — спросила Тайка.
— Ага, — сказал Митька.
— Правда, как в кино?
— Правда.
Ребята сами не заметили, как оказались в лесу. Домой обычно ходили другой дорогой — полем. А этой, по которой возили сено из лесу, ходили только зимой, да и то, когда в поле был сильный ветер. Сегодня же в лесу не колыхался ни один листок. Птицы по-осеннему молчали, и от этого лес казался таинственным, незнакомым.
Они шли, и время от времени кто-нибудь из них наклонялся, чтоб сорвать сыроежку или волнушку, умудрившуюся выскочить к самой дороге. Деревенские дети не так приучены, чтоб проходить мимо добра, и скоро у Тайки был полон портфель, потому что Митька тоже отдавал ей свои находки.
— Давай я разберусь, — сказала Тайка.
Она подошла к широкому пню, высыпала на него грибы, вытащили книжки, тетради.
— Грибы сложи в портфель, а книжки я понесу, — предложил Митька.
Вокруг того места, где они стояли, алела рябина.
— Гляди-ка, красная, — ахнула Тайка.
— Пора уже, — заметил Митька.
— Не-е, я не о том. Такой красной, может, во всем лесу нет больше. Попробуй найди.
Митька не поверил, стал смотреть, сравнивать. И правда, больше такой не было. Были желтые, оранжевые, багряные, еще какие-то… А красной — нет, не было.
— А все равно красиво, — рассмотрев это разноцветье, признал он.
— А хочешь я тебя на свою поляну сведу? — предложила Тайка. — Там еще получше.
— С чего это она твоя поляна?
Тайка смутилась.
— Ну… я туда часто хожу. Это недалеко. Пойдем?
— Пойдем, — Митьке стало интересно. Видали, какая помещица отыскалась.
Они миновали одну поляну, другую, и, когда вступили на третью, Митька сразу сам догадался, что это и есть Тайкина. Она была такой веселой, такой празднично-радостной, что невольно рот расплывался до ушей, хотелось петь, кричать и кувыркаться, как маленькому.
— Вот это да-а! — восхитился он.
Тайка гордо молчала.
— И как это ты такое отыскала? Я ж, наверное, тут не раз бывал, а ничего не видел.
— Когда ж тебе видеть, ты все компаниями ходишь. Поди, никогда в лесу один не был?
После того как вволю налюбовались жаркими осенними красками, она показала ему пригнувшуюся к земле, искореженную временем березу.
— Скажешь, не похожа на лешака?
Со ствола березы сбегал к земле длинный седой мох — борода, да и только, а большущий