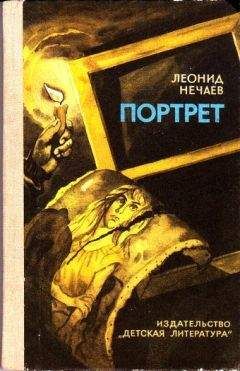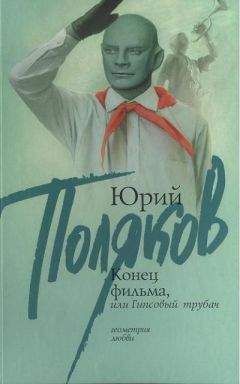— Ты порвал холст, мстя мне. Вот пример того, как ты не сумел примирить действительность с искусством. Не сумел отличить одно от другого. И наказал холст, как ребенок наказывает игрушку, которую считает живой… Ты поставил личное выше искусства. Ревность выше холста. Деструкцию выше творчества. И мстил ты мне не за мой «Колхозный рынок», который ты обвиняешь едва ли не в лубочности. И не за мой так называемый уход от противоречий жизни, и не за мое потребительское отношение к красоте, которым ты клеймишь меня с размаху, — нет!.. Между нами встала Талька. Из-за нее я стал в твоих глазах чудовищем.
Хлебников остановился. Самое острое, самое тяжелое копье, наверное, попало в цель.
— Впрочем, — вдруг размяк он, — это возраст. Максимализм, негативизм и все такое прочее. Переходное. Притерпишься, привыкнешь и никогда не будешь раздирать холсты.
Кажется, Хлебников успокоил себя. Достал сигарету, помял ее.
— И последнее… Ты парень умный, выслушай меня до конца. Мы ведь мужчины — давай поговорим начистоту. О человеческом, жизненном. Давай рассудим трезво: что ты мог дать Тальке?.. Твои отношения с ней были бесперспективны. Я это видел. Девушки в ее возрасте намного опережают вас, мальчишек. Они уже мысленно «судьбу свою устраивают». Ты еще витаешь в облаках, а Талька между прочим, уже о браке думает. Я… женюсь на ней… Женюсь!
Глаза Хлебникова блестели. Он смотрел прямо перед собой, но уже, кажется, не видел Женю.
«Как удобно сидит он в кресле! — тоскливо смотрел Женя на Хлебникова. — Пепельница у ног… Чашка с кофе у ног… Все у его ног! Весь мир у ног!»
Женя все еще торчал у подоконника. Он не мог ни ответить что-нибудь, ни тронуться с места, ни даже пошевелить рукой, чтобы положить альбом на место. Он даже забыл, что это за альбом он так крепко прижимает к груди… Ах да — Пиросмани. Пиросмани! В какой же пропорции было у него все подогнано, что даже похлебки не доставалось?
Жене вдруг стало тепло, как будто до сих пор сердце не билось, а тут толчком погнало в груди жаркую кровь. «Вот уж обрадовался! — думал Женя, едва сдерживая улыбку. — Нашел себе опору и надежду — человека без похлебки…»
Хлебников после каждого глотка кофе щелкал языком и морщился: проклятое дупло!
— Любомир Фаддеич, вы меня все время ломаете, все время что-то мне доказываете. Но доказываете так, словно оправдываетесь.
Женя с сожалением расстался с альбомом, положив его на подоконник, и пошел к двери. С порога он улыбнулся Хлебникову:
— Я вам не судья.
Женя на секунду прильнул лицом к окну. Первый снег стаял, и земля была непроницаемо черна.
Женя обул кеды, надел куртку и вязаную шапочку. Он возобновил утренние пробежки к скирде.
Дорогу развезло. На улице было сыро, но неожиданно тепло, как весной. Оголенная земля и мягкая, податливая темнота утра пробуждали в душе смутное волнение, нетерпеливое томление; словно ты долго болел, и тебе нельзя было покинуть постылое жилье, но вот ты снова ощутил прилив бодрых сил, прилив желанный и неодолимый, и сейчас ты распахнешь дверь, ступишь на крыльцо и хватишь наконец полной грудью головокружительного воздуха…
Женя и бежать-то не бежал: брел полем, прислушиваясь к тишине и к себе и удивляясь нарастающему восторгу. Откуда бралась такая легкость в теле, когда, кажется, стоит оттолкнуться от земли и поднимешься над дорогой, и полетишь над нею в долгом прыжке-полете! Откуда такая легкость в дыхании, такое ясное и словно безграничное сознание!..
Лицо, шею обдавало теплым воздухом; за рекой, низко над землею, светлело: исподволь истончался край облаков; и все это было особенно дорого в предзимье, когда небо сколько уж дней затянуто неподвижной хмурой пеленой, а земля молчалива и сумрачна. И не на этот ли свет, уже льющийся из прорыва, отвечает душа?
Мглистый воздух, вязкая земля, притихшие ветлы, далекие, прижавшиеся друг к дружке избы — все вокруг было полно радостного смысла, все в это утро было светло душою.
Женя остановился… Все вокруг признавалось в своей приязни к нему, он явственно ощущал это. В самом безмолвии ему слышалось что-то ласковое и ликующее. Оно ликовало, потому что знало свою кроткую власть над ним…
Растерянно-радостный возвращался Женя в поселок. Край облаков в заречной дали оторвался от горизонта, и Женя увидел в узкой щели зеленоватую полоску неба. Удивительна была эта нечаянная полоска неба; удивительной силой наполнило это утро Женю.
Дома он порылся в столе, достал целый и невредимый натюрморт с яблоком и кофейником, усмехнулся, сунул его обратно. Вытащил кипу этюдов. Вот Талькино лицо. Наброски. Десяток листов.
Женя сидел неподвижно и всматривался в ее лицо. И снова ощутил веяние того несказанного, ласкового и ликующего, что было в поле. Будто неслышной волной нежно подняло сердце…
В школе, увидев, как Мишка Булкин трескает яблоко, он вспомнил, что даже не позавтракал. На уроках Булкин то и дело подталкивал его локтем: учитель в упор смотрит, а ты словно спишь!
Женя не сводил глаз с Талькиных плеч, приподнятых и неподвижных. На последнем уроке он передал ей записку: «Я должен написать твой портрет. Это очень важно».
Она ответила тоже запиской: «Это невозможно! Поздно».
Перед Женей стояло блюдо с селедкой. Ему вовсе не хотелось писать селедку, и он тайком рисовал Тальку, что забралась в кресло, как зверек, и щурила оттуда зеленые хищные глаза.
Она изводила Хлебникова.
— Зачем рисовать натуральную капусту, — спрашивала Талька, — если она и так видима в природе любому глазу? Зачем рисовать меня такой, какой я могу увидеть себя в зеркале?
Она говорила, что это обман. Она знает такой термин в живописи: «обманка» — буквальное изображение того, что мы видим, изображение, создающее полную иллюзию действительности. В одном западноевропейском городе художник украсил «обманкой» глухую тупиковую стену: он изобразил во всю высоту стены перспективу улицы, нарисовал автомашины, стаффаж, небо; эта абсолютная внешняя схожесть обманывала даже птиц — они разбивались о небо, которое на самом деле было кирпичным; об эту грандиозную «обманку» расплющивались на полной скорости реальные автомашины… Обман, потому что очень уж похоже — вот парадокс!
Талька ежилась в кресле, передергивала плечами.
— Вы хотите, чтоб я разбилась об этот портрет, где я так похожа на себя своей модной раскованностью…
Хлебников деловито осматривал портрет, вертел его в своих ручищах и отвечал, не глядя на Тальку:
— Как же прикажете вас писать: кубиками, точками?
— А очень просто. Плоско, с обратной перспективой, как Андрей Рублев. Или в виде растекшейся лужицы, как рисовал человека Лев Толстой.
Хлебников устремил на Тальку удивленный и настороженный взгляд, затем осклабился:
— Научил на свою голову…
Повернув портрет к свету, он еще раз удовлетворенно, по-хозяйски осмотрел его. Собственная работа нравилась ему. Вот только подрамник никуда не годился. Он был сделан на живую нитку, не скреплен угольничками и теперь от неосторожного нажима поехал, скособочился. Чего доброго холст сморщится, а там и краска посыплется. К тому же одна еловая рейка была с трещиной. Лучше заменить подрамник.
Хлебников сказал примирительно:
— У тебя плохое настроение.
Талька взяла с пола пачку сигарет, неловко закурила. От дыма у нее заслезились глаза. Она повернула голову к Жене.
— Любомир Фаддеич утверждает, будто я похожа на детеныша жирафы, особенно в этой блузке. Что ты скажешь на этот счет, Женя?
Талька была в оранжевой шелковой блузке и в джинсах.
Хлебников прав, она действительно похожа на детеныша жирафы.
Женя пожимает плечами.
— Жирафы — они разные бывают…
— Как это — разные?
Женя молчит, и отвечать приходится Хлебникову.
— Ну, например, у Дали — свой жираф, горящий. И у меня свой, и у Жени…
Талька, осмысливая сказанное, переводит взгляд с Хлебникова на Женю, с Жени на Хлебникова.
— Ясно… — произносит она. — Вы заодно. Только один разглядел мои длинные тонкие жирафьи ноги, а другой мою длинную тонкую жирафью шею.
Хлебников смеется. Женя криво улыбается и отворачивается.
Хлебников доволен тем, что Талька наконец оставила в покое портрет; а Женя настороженно следит за ней, понимая, что разговор о портрете вовсе не кончен.
Талька придирчиво осматривала комнату. Взгляд ее наткнулся на обрамленный этюд с капустой, стоявший на полу у стены, и она принялась насмешничать.
Хлебников, говорила она, в очередной раз порадовал нас тем, что раскрыл многообразие жизни в капустном кочане, выразительном и неповторимом. Он пишет в надежной, традиционной манере, избегая любых новаций. За видимой зрителю безыскусностью и непритязательностью кочана можно подозревать изматывающий душу труд художника.