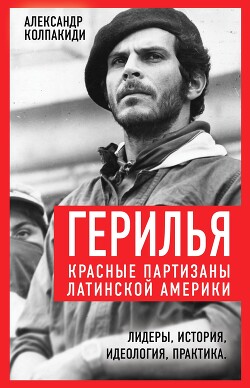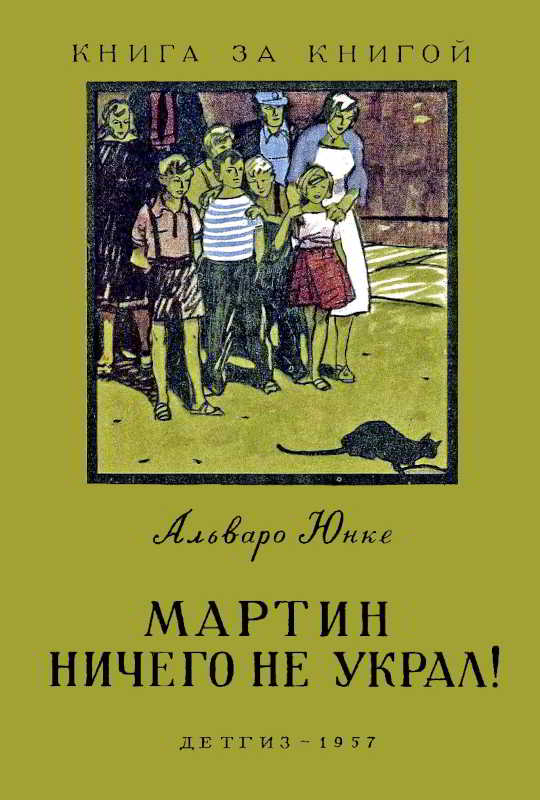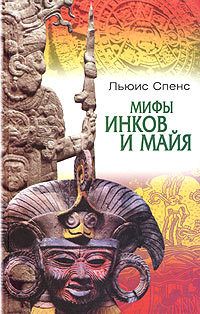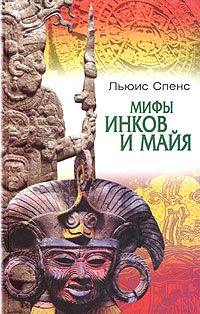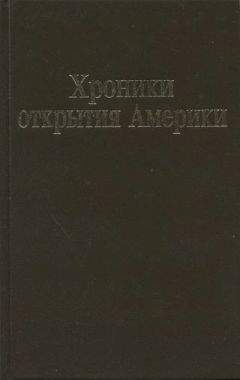Наверное, и письма, которые я ей посылал, не очень-то заставляли ее думать обо мне. Ну и пусть! Больно мне нужно! Ведь если меня кто-нибудь обидит или изобьет, я могу прийти к тете или к бабушке, и они всегда встретят меня ласковым словом, утешат… Она меня забыла! Вот почему она не хочет ни говорить, ни смеяться со мною, как раньше…
Поезд все еще идет вдоль реки. Земля вокруг стала сухой, и солнце палит так нещадно, что его лучи колют, как булавки. Мама снова задремала. А может быть, что-то вспоминает. Мне хочется снять пилотку… И тут мне приходит в голову мысль: а разве она купила бы мне эту замечательную пилотку, если бы не любила метая! Эту суконную пилотку, которую я сам выбрал и какой нет ни у кого в Морале! Она мне сама помогла выбрать, и ни слова не оказала, что дорого. Она любит меня, хоть и не покупает мне слив и не хочет со мной поговорить. Я знаю, в чем дело, и надеюсь, что мне удастся развеселить ее своими историями. А потом я попрошу деда, чтобы он отдал нам обратно домик с зелеными воротами и чтобы тетя опять пришла к нам жить. Если мама хочет, то я не буду водиться с пастухом и буду хорошо учиться, чтобы потом ей помогать и чтобы она не уезжала больше работать в город.
После тоннеля (это слово я первый раз услышал, когда ехал на поезде к маме) поезд карабкается по безлесному холму, позади которого и лежит наш Марал. Это даже и не станция, просто стоит там старый большой дом, принадлежавший, как говорят, одному колдуну, — с растрескавшимися стенами, весь увитый диким плющом. Здесь мы и сходим. Очень быстро, потому что здесь нет пассажиров и ничего не продают. Поезд почти сразу же трогается. Но мне здесь нравится. Все мне кажется здесь красивым, и особенно оттого, что я привез с собой маму, с которой мы будем снова жить вместе, как раньше, и которую я постараюсь развеселить. Чтобы у нее разгладились морщинки на лбу и чтобы она не скучала. И пусть ей не захочется больше уезжать от меня, потому что уже никто не скажет ей, что она служанка в доме деда, думает Рикардо. Никто не посмеет ей этого сказать! Ни Серафим, «и мальчишки в школе. Никто. Потому что, когда я стану большим, я сделаю все, чтобы она была счастлива. И всегда сумею постоять за нее.

Альфредо Рейес Трехо (Куба)
МОЙ ДЕДУШКА И Я
Хотя в тот день мы, как обычно, легли рано, я все не мог уснуть по-настоящему. Сон никак не шел ко мне, потому что через несколько часов я должен был увидеть то, чего еще никогда не видал, разве что в мечтах, и эта мысль очень мне мешала.
Мама уже давно погасила последнюю свечу, и мои братья спали.
Через щель в стене нашей хижины, сплетенной из пальмовых листьев, просачивался бледный луч луны. Если раздавался какой-нибудь звук, даже самый слабый, его все равно было слышно — такая стояла тишина. Ночь окутывала все своим мраком. Снаружи посвистывал ветер, да время от времени на соседнем бугре по другую сторону лощины лаяла собака Мартинесов и ей отвечал наш Султан, ночевавший у очага на кухне. Когда пес замолкал, ветер уносил его лай в ночь, на гору, где спали крестьяне и хутии [4].
— Вставай, сынок, пора, дед уже дожидается.
Мама стояла надо мной со свечой в руке и тихонько тормошила меня. Я не сразу понял, зачем она будит меня в такую рань. Мне очень хотелось спать. Но, увидя за ее спиной фигуру деда, я сразу все вспомнил. Дед сказал:
— Ты не можешь быть моим помощником, если так ленишься вставать.
Одним прыжком я соскочил на пол, и дедушка чуть не рассмеялся.
У моего дедушки маленькие, черные как смоль усы и такие же черные прямые волосы, а лоб широкий и ясный. Над суровыми карими глазами дугой изгибаются брови. Мама говорила мне, что он глядит так сурово потому, что был на войне и командовал многими людьми, а война — дело суровое.
Братья продолжали спать, хотя я и нашумел, пока вставал, да еще уронил на пол свечу, а мама ¡варила кофе, а дед говорил громким голосом. Мама как-то сказала нам, что эта привычка у него тоже с войны — кто говорит тихо, того не слушают.
Сидя на крупе кобылы моего деда, на сложенном вчетверо мешке, который подостлали, чтобы я не испачкал штанов, я увидел, что в одной стороне небо все усыпано звездами, а в другой их совсем нет. Мама поцеловала меня в щеку, а дед сказал:
— H-но, кобыла!
И мы поехали в ту сторону, где были звезды.
Когда мы проезжали через Харауэку, звезды уже совсем попрятались, только одна еще сияла на небосклоне, и дедушка сказал мне, что это утренняя звезда Венера. Харауэка — это вроде столицы нашего края, и мы с братьями всегда мечтали увидеть ее. Один раз на рождество папа возил нас туда, и мы катались на карусели. Потом он дал нам каждому по реалу, и мы накупили кучу сладостей и в первый раз пили лимонад из бутылок. Кругом было много людей, а лошади были привязаны к галерее лавки Родригеса и под деревьями.
Сейчас тут было безлюдно и тихо, лавка закрыта, школа и площадка, где устраиваются танцы, погружены в темноту, и лишь привязанные во дворах петухи горланили до хрипоты. Дома по соседству тоже были заперты, а над низиной, где в праздники играли в пелоту [5], струился легкий туман, потому что рядом была река. У казармы сидел на табурете солдат с ружьем и патронташем. Когда мы проезжали мимо, часовой окликнул деда по имени и предложил ему выпить чашку кофе. Дедушка не ответил и поехал дальше. Он не любил часовых.
— Никогда не ходи в казарму, — сказал он мне.
Лошадиные подковы звонко цокали по булыжной мостовой. Вот и последний дом, над ним тонкой струйкой поднимался белый дым, и дверь его была открыта. Дед остановил лошадь, слез, потом снял меня.
— Это пекарня, здесь делают хлеб, — сказал он, кивнув в сторону дома.
Еще с порога дед поздоровался, и человек, месивший тесто — старый, даже старше дедушки, негр, — удивился и радостно бросился ему навстречу. Дед