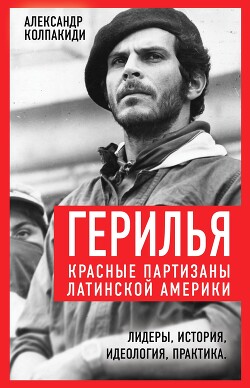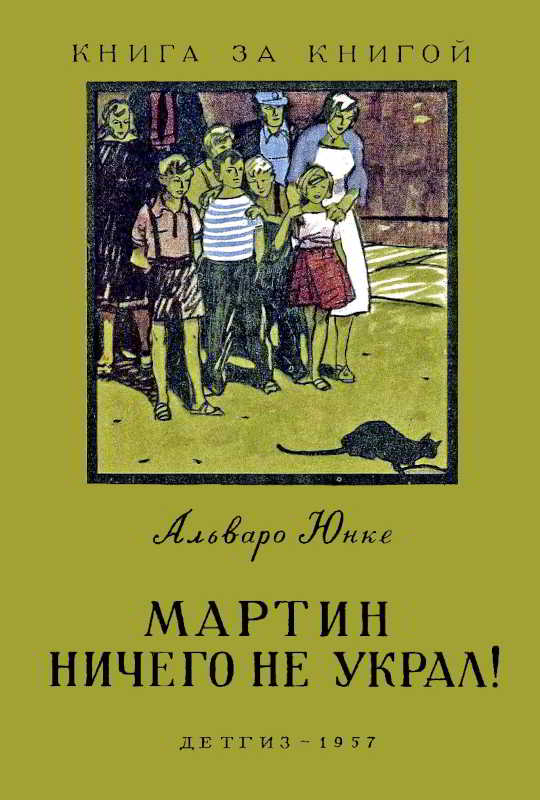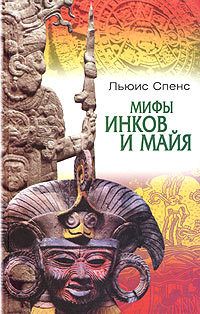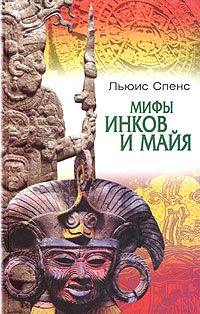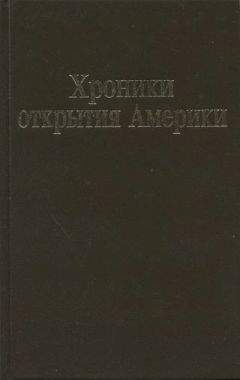их положение вое ухудшалось. Из ста восьмидесяти повстанцев, составлявших его отряд в прошлом месяце, оставалось шестьдесят шесть человек. Их даже нельзя было, как несколько недель назад, называть стрелками. Ведь в отряде едва насчитывалось тридцать карабинов и всего-навсего триста патронов. Солдаты ходили оборванными и босыми. На некоторых совсем ничего не было, кроме лоскута недубленой кожи, подхваченного на бедрах поясом, на котором висели зазубренные мачете в самодельных ножнах из пальмового дерева. Не хватало «продовольствия. За вчерашний день удалось раздобыть только гуайябы [7] и диких ананасов, от которых болели губы и кровоточили десны. В таких условиях дезертирство одного человека могло привести к катастрофе, так как подорвало бы ту веру повстанцев в победу, которая была необходима для того, чтобы вынести самые тяжкие испытания. Дело было особенно серьезно, потому что речь шла об Эрнандесе Трухильо — одном из тех шести человек, которые первыми последовали за капитаном, когда он решил присоединиться к революционерам.
Размышления Аграмонте были прерваны появлением Эрнандеса Трухильо. Это был парень лет двадцати четырех, с большими глазами, энергичным подбородком и плотно сжатыми губами. Подойдя к капитану, он спросил:
— Вы хотели меня видеть?
— Да, нам нужно поговорить, — сказал Аграмонте, бросив на него беглый взгляд. И, указав на самодельный гамак, подвешенный между двумя деревьями, добавил: — Садись.
— Спасибо. Я лучше постою, — глухо ответил Эрнандес. Он стоял, прислонившись спиной к сейбе, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на капитана.
— Мне передали, что ты хочешь сдаться испанцам. Это правда? — спросил капитан Аграмонте, глядя Эрнандесу прямо в глаза.
Тот попытался выдержать его суровый взгляд, но не смог и опустил голову.
— Да, вас не обманули.
— Вынь руки из карманов, когда с тобой разговаривает командир!
Эрнандес Трухильо повиновался, хотя и неохотно.
— Ну и как, ты уже решил?
— Да, я больше не могу. Так нельзя ни жить, ни воевать. Посмотрите на меня!
Эрнандес уныло поднял руки, показывая капитану отрепья, кое-как прикрывавшие его тело: рубашка с короткими рукавами была вся в дырах, а штаны не доходили и до колен.
— Ну, ты совсем неплохо выглядишь. У тебя даже башмаки есть. Если бы все мои парни могли этим похвастаться! Ты, можно сказать, даже элегантен. Впрочем, я тебя понимаю. Жизнь у нас нелегкая, и смерть бродит слишком близко. Мало радости каждый день подвергаться опасности! Гораздо веселей прогуливаться с девушками, приятнее развлекаться в салонах, чем продираться через эти чащи. Некоторые не выдерживают такой жизни. И не нужно судить их сурово. К чему? Наоборот, надо пожалеть их детскую слабость.
Щеки Эрнандеса вспыхнули, словно его ударили по лицу.
— Вы не имеете права так говорить! Я был с вами с самого начала и «всегда вел себя достойно. Я никогда не колебался, если нужно было идти навстречу опасности. И доказательство тому то, что вы собирались произвести меня в лейтенанты.
— Да, но это было раньше. А теперь уже нет. Мне кажется, что теперь опасность пугает тебя. В минуту, когда революция нуждается в нас больше всего, ты хочешь уйти. Один из первых, кто к ней присоединился! И я сожалею об этом. Очень сожалею. Если бы я мог, я сделал бы все, чтобы ты был доволен. Я много бы дал, чтобы подарить тебе пару лаковых туфель, парадный сюртук и шляпу по последней моде. Наверное, и немного пудры тебе очень пошло бы! А?
— Ах, вы издеваетесь надо мной? Но это не помешает мне уйти!
— Я тебя не удерживаю! Нам нужны люди, которые сражаются по доброй воле. Люди с чистой душой «и горячим сердцем, которые ищут в сражениях жертвенного алтаря, а не радостей и наслаждений. Золото становится здесь тверже, а свинец плавится. Чего бы я достиг, помешав тебе уйти? Разве что накормил бы коршунов? Мне это совсем не нравится. Я не прошу тебя оставаться! Ни в коем случае! А ты знаешь, что я мог бы это сделать. Ведь так?
Не получив ответа, капитан Аграмонте продолжал:
— Нет, пускай тебя вешают наши враги. Уход слабых — это стимул для сильных. Позор дезертиров придаст нам силы, чтобы победить. Никто не сможет сказать, что люди Аграмонте убили беззащитного человека, даже если этот человек собирается дезертировать и кодекс чести требует его смерти. А кроме того, мы благодарны тебе за все, что ты сделал для Кубы. И не забудем, что в прошлом ты тоже был среди отважных. Так когда ты собираешься уйти?
— Если вы меня не повесите, как только смогу. При первой же возможности.
— В таком случае ты можешь сделать это сегодня же. Хочешь? У нас четыре лошади. Ты можешь взять одну из них.
— Вы говорите серьезно?
— Конечно. Итак, когда ты уходишь?
Эрнандес Трухильо молчал. Слова капитана пронзали его насквозь и жгли душу, как струя расплавленного металла. Он ожидал тяжелого объяснения, во время которого мог подвергаться опасности получить пулю в лоб, а потом военно-полевого суда и повешения. И вдруг произошло то, чего он совершенно не ожидал. Поведение капитана казалось ему невероятным, а его великодушие потрясло до глубины души. Слова капитана, грубые, но исполненные благородного патриотизма, иногда саркастичные, но пропитанные смутной нежностью и невысказанной жалостью, произвели на него странное впечатление. К его растерянности примешивались угрызения совести и стремление доказать свое мужество.
К тому же сердце его не хотело смириться с принятым решением. Сдаться злейшему врагу! Он понимал, что поступает так по инерции, подчиняясь какому-то неопределенному импульсу, но ничего не мог с собой сделать. Сначала одна идея сдаться испанским властям вызывала у него улыбку — такой нелепой она ему казалась. Вставал и вопрос: «А что они со мной сделают?» Потом начал думать об этом более серьезно. И наконец, эта мысль стала навязчивой идеей и держала его нервы, словно натянутую проволоку, в постоянном напряжении. Он попробовал усилием воли побороть себя, но от этого ему становилось еще труднее. Чем больше он подавлял эту идею, тем сильней она его терзала. Бывали моменты, когда его душевные муки становились просто невыносимыми. Он ощущал, как смертельная тоска охватывает его сердце, и капли холодного пота выступали у него на висках. И он тонул в этом отчаянном чувстве ужаса и стыда, заставлявшем его прятаться от товарищей из страха, что, увидя его в таком состоянии, они могут догадаться о его мыслях. И наконец, стремясь доказать самому себе, что не страх смерти толкает его на дезертирство, он сказал товарищам о своем решении, хотя